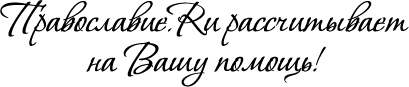Иногда религиозное чувство зарождается в человеке само по себе, как-то бессознательно.
Иногда религиозное чувство зарождается в человеке само по себе, как-то бессознательно.
В среде, совершенно лишенной тяготения к вере, в среде, где все духовное подвергается злому осмеянию, где детям стремятся привить презрительное отношение к христианству и всячески клеймить пред ними это учение, — и там часто, при этих обстоятельствах, вырабатываются счастливые природы с ярко выраженными стремлениями к религии.
Ведь в первые века христианства часто дети жесточайших гонителей христиан неудержимо влеклись ко Христу и получали мученическую смерть от своих родителей.
Такова, например, история юной девы, великомученицы Варвары, которая, втайне от своего отца, закоренелого язычника Диоскора, приняв христианство, была жестоко им гонима и отдана на невыразимые муки, завершившиеся усечением мечом, во исполнение слов Христовых — «предаст на смерть отец чада».
Современность знает такие же необыкновенные случаи — горячей, напряженной веры у детей, родители которых являются врагами Христа.
В наши дни Франция, как государство, пошла против Христа. Она запрещает упоминать имя Его в школах, выбросила крест из общественных зданий, изгнала всех монахов и монахинь, значительная часть которых занималась делами благотворения, учила юношество (лучшее среднее воспитание давалось в школах, которые содержали монахи), ходили в госпиталях за больными, посещали бедных.
В армии есть доносчики, которые доносят на офицеров, посещающих храмы, и эти офицеры — на плохом счету и задерживаются в своем служебном движении.
Вот что сталось со страною, которая некогда считалась «первородною дщерью» Католической Церкви, короли которой почетнейшим для себя титулом считали наименование «Христианнейший», со страною покровительницы Парижа девы Женевьевы, страною святого короля Людовика и другой великой девы, Иоанны д’Арк, верою своею спасшей Францию от порабощения Англией.
Но религия пустила в этой стране слишком глубокие корни, чтобы весь народ пошел за безумствующим правительством.
И остаются верными религии множество людей, которые были в ней воспитаны.
Пишущему эти строки пришлось присутствовать в величайшем по размеру святилище Парижа, необъятной базилике во имя «Священного Сердца Иисусова», царствующей над Парижем с высоты Монмартрского холма, — на потрясающем служении.
Во Франции есть братство, носящее название «мужей Франции» и объединившее в составе членов своих все решительно приходы страны. Раз в месяц в базилике «Сердца Иисусова» собираются они для молитвы о своей стране и о своей вере. Произносится с кафедры слово, освещающее положение страны и дело обороны в ней веры и народной верующей души от посягательств безбожного правительства, бывает торжественный крестный ход по окружающим базилику широким галереям, а до того вся церковь, наполненная мужчинами всех решительно состояний и возрастов, поет гимны.
Трудно передать величие, в котором к высоким сводам поднимается под звуки могучего органа гармонический крик этой несметной толпы, объединенной одной тоскою по старой Франции, согласно склонявшейся пред распятым Христом, одною мольбою о возрождении страны:
Sauvez, sauvez
При выходе пришлось минут десять добираться до дверей, хотя я находился недалеко от них, и все это множество народа и только что слышанное пение вселяли одно твердое убеждение:
«Нет, во Франции еще не покончено с религией!»
Так вот, кроме людей и молодежи, принадлежащих к этой части Франции, сохранившей свою веру, кроме них тоскуют по религии дети отъявленных врагов религии.
Дочь Жореса, известного политического деятеля, непримиримого врага Церкви, постриглась в монахини.
Другие единомышленники его узнавали, что взрослые дети их потихоньку от них ходят в церковь, приобщаются. Когда они упрекали детей в том, что они скрывают от них эти поступки, дети спокойно отвечали:
«Мы вас не обманывали. Мы исполняли то, что нам внушает внутренний голос, а чтобы не огорчать вас, мы этим с вами не делились. Ведь ни вы нам, ни мы вам не внушим своих убеждений».
И спокойно, без споров и борьбы эта молодежь продолжала жить в той Церкви, которую рушили их отцы.
Есть какая-то особая высота и святыня в той душе, которая приходит к Богу сама по себе, по внутреннему влечению, которой Бог открывается Сам. Таким именно путем внутреннего чудесного озарения пришла ко Христу великомученица Варвара.
Отец ее не мог надышаться на свою дочь, а красота ее, по мере того как она подрастала, расцветала так, что отцу ее казалось, что глаза людей недостойны видеть Варвару, и для нее была выстроена обширная высокая башня с великолепными палатами.
Лучшим утешением Варвары в ее одиночестве и блестящем затворничестве было смотреть с высоты на природу. Она любила уходить взорами в вечернюю пору в небо, горевшее мигающими звездами, словно возвещающими о каких-то великих, скрытых за этим загадочным шатром, иных мирах. Наблюдала она и красоту земли: праздники юных зорь, роскошь заката, изумрудный всход молодых посевов, колеблемые в летнюю пору ветром волны золотистых нив, немолчно шумящие вершины деревьев.
Захотелось ей, смотря на красоту мироздания, знать, кто же создал всю эту вселенную, украсил ее, как невесту, для неведомого жениха.
Как-то она спросила одну из своих воспитательниц, указывая на красоту неба:
— Кто это сотворил?
Потом, взглянув на красоту земли, на поля и рощи, на сады в их весенней свежей зелени, на возвышающиеся к небу горы, на тихие задумчивые воды, она опять спросила:
— Чьей рукой создана вся эта красота?
— Все это создали боги, — ответили ей.
Варвара стала расспрашивать, какие именно боги.
— Да те боги, — ответили ей, — которым поклоняется твой отец и которые стоят у него, — золотые, серебряные, деревянные. Они всё создали.
Варвара была вдумчива не по летам. И несообразность ответа, ею полученного, бросилась ей в глаза. Она возразила:
— Ведь эти боги сделаны руками человеческими: как же эти выделанные людьми боги могли создать светлое, высокое небо и всю земную красоту, когда они сами не ходят ногами и не двигают руками?
Так осталась Варвара неудовлетворенною. Мысль ее не успокаивалась — она размышляла ночью и днем и глядела на небо, замерев пред его тайнами, сжигаемая желанием познать Творца и Его творение. И вот Господь, видя высокую жажду этой души, Сам пошел к ней навстречу.
Как-то однажды, когда она смотрела на небо, разгораясь желанием познать Того, Кто его сотворил, к Кому стремилась ее душа, еще не познавшая истины, но требовавшая истины, — был ей глагол Божий.
Благодать озарила ум Варвары, внутренние очи открылись. Полнота истины озарила ее, и она сказала себе сама: «Един должен быть Бог, и Его не сделала рука человеческая, а Сам Он, имеющий собственное бытие, Своею рукою создает все. Един должен быть Тот, Кто поставил красоту неба, утвердил землю и освещает вселенную греющими лучами солнца, сиянием луны и блистанием звезд. Един Тот, Кто украшает землю различными деревьями, цветами, орошает ее руками, источниками и иными собраниями воды. Един должен быть Бог, Который все держит, и всем дает жизнь, и обо всем заботится».
И вот любовь к таинственному Богу, открывшемуся ее душе, стала охватывать все существо Варвары чудными силами. Так бывает в любви земной, что, едва увидав человека, которого суждено любить всю жизнь, душа стремится всеми силами к этому человеку, лишь в его присутствии чуя в себе счастье и жизнь.
То же, но в еще большей степени, было теперь с Варварой. Она жаждала узнать о Боге, думала лишь о Нем, изнывала в неведении, сгорала любовью к Тому таинственному и неведомому, Которого предчувствовала, но Который еще так мало был ей открыт.
Она не могла надеяться получить от кого-нибудь весть о Боге, потому что никто не входил к ней в башню. Лишь иногда тайными осенениями сообщал ей проблески истины Учитель и Наставник ее, Святой Дух, Который говорил с ее душою бессловесными знаками и никому, кроме нее одной, невнятными внушениями...
Как это было с великомученицею Варварою, — ясный ум не может не остановиться над таким вопросом.
Если нет ни одного людского предприятия, которое могло бы двигаться, никем не руководимое, то как же без верховного Начала могла бы держаться в своей изумительной стройности вся громада мироздания?
Такой ум сам собою придет к неизбежной вере в Творца и Промыслителя всего существующего.
Затем для ума животного и глубокого и для природы, отличающейся справедливостью, представляется необходимым проверить те странные нападки на религию, которых он становится свидетелем. Он старается во всем разобраться. И можно сказать, что иные люди, которые бы остались к природе равнодушны в те времена, когда религия не преследуется, — обращаются к ней всею душой во времена гонений.
Но этот путь, о котором сейчас было говорено, — путь непосредственной веры, есть путь немногих избранных душ.
В других веру надо воспитывать, и это воспитание веры принадлежит к числу важнейших задач жизни.
Нечего много распространяться о том, насколько для людей верующих кажется важным вопрос о том, чтобы передать свою веру детям.
Порою этою же заботой волнуются и атеисты.
Кто-то из французских известных отрицателей самолично водил свою дочь на уроки катехизиса — очевидно, желая воспитать в своей дочери ту веру, которой был лишен он сам.
Одна состоятельная женщина, очень образованная и считающая себя атеисткой, занимается столовыми, где кормят бедных детей. Как-то она рассказывала:
— Представьте, прихожу я в столовую. Дети садятся за столы, как ягнята, без молитвы. Я сейчас же велела им спеть молитву. Ведь это ни на что не похоже, — и самым строгим образом предписала надзирательнице, чтоб никогда не садились без молитвы.
Негодование в устах «атеистки» довольно неожиданное...
Но в том-то и дело, что атеизм, доведенный до последних выводов, до равнодушия, у содержательных людей почти не существует: или он бывает кроткий и примирительный, как вот у этой женской души, граничащий с верой, или ненавистный, воинствующий, а ненависть — это только оборотная сторона любви.
Так или иначе, эти люди чувствуют всю ценность для души религии, незаменимую поддержку, которую она оказывает людям, и не решаются отнимать у близких такое сокровище.
Одна мать нанимала на лето в деревню учителя-студента для своего сына, которому было тогда лет шестнадцать. Студент оказался во всех отношениях подходящим, но нужно было решить еще важнейший вопрос.
— Видите, — сказала эта заботливая мать, — я воспитывала моего сына верующим и доселе сумела сохранить его в этом отношении от всяких колебаний. Я хотела бы знать, каково будет воздействие ваше на него с этой стороны.
— Место у вас, — отвечал ей этот, как видно, порядочный и честный, молодой человек, — подходит мне во всех отношениях. Но я лучше лишусь этого места, чем скрою от вас правду. Я сам неверующий человек, и от этого сильно страдаю. Зная по себе, как тяжело жить без веры, я, конечно, ни в ком ее не колеблю. И если б я поступил к вам, я бы тщательно избегал касаться пред вашим сыном этих вопросов.
Так должен смотреть на это всякий человек, сочувственно и глубоко относящийся к людям.
Но, конечно, из этого осторожного молчания многого не вынесет детская душа. Нужно положительное воздействие.
Нельзя достаточно настаивать на том первостепенном значении, какое имеют для непробудившегося даже еще вполне сознания первые теплые и чистые впечатления веры.
В детской пред старой иконой тихо, бесстрастным умиряющим огнем теплится лампадка; старая няня пред иконою творит поклон за поклоном; с ближней колокольни доносится тихий мирный благовест.
В Божию церковь идут Божии дети...
* * *
Окна трескучий мороз разрисовал прихотливым узором, а здесь, в комнате, тепло, уютно и отрадно.
И этот мир, это святое затишье, ребенок, быть может, вспомнит много раз потом в зрелые года, и многое прояснится тогда в его омраченной душе.
Мне вспоминается одно посещение усадьбы родных.
Будучи по делам в одном старинном городе, я вспомнил, что тут неподалеку, верстах в двенадцати от города, живут в старой родовой усадьбе мои родственники. Я списался с ними, они выслали лошадей, и я поехал к ним как-то вечером.
После осмотра дома, строенного в начале XIX века, со старыми семейными портретами на стенах, старою мебелью и старинною посудой, — я прошел за молодой хозяйкой в большую темную комнату.
— Тут его отец родился, — сказала она у порога, кивая головою на мужа.
А покойный старик был не рядовой человек, памятный в истории своего края.
Мы вошли.
Просторная комната с тщательно завешанными окнами была почти пуста, как это бывает в хорошо содержимых детских. На столе висел в металлическом киоте и в золоченой ризе Казанский образ Богоматери, пред ней светился чрез синее стекло лампадки нежный огонек.
— Этой иконой моего отца на свадьбу благословляли, — сказал тихо хозяин.
Посреди комнаты стояла колыбель с раскинутыми в стороны кисейными занавесками. В ней лежал спящий младенец, сладко чмокая губами.
Казалось, что лик старой иконы доставал своими благостными очами эту колыбель и осенял своей силой новое человеческое существование.
И эта икона какими-то узами связывала деда и внука, прошлое и будущее...
Вот та здоровая, естественная обстановка, которою от рождения окружен ребенок христианских родителей.
А сколько трогательной поэзии в том, что молодая мать учит ребенка складывать пальчики руки в первое крестное знамение, учит его лепетать среди первых слов, которые он начинает произносить, великое имя — Бог.
Жалко того ребенка, которого мать не учила молиться, и жалко ту мать, которая предоставила эту заветную обязанность другим.
Замечательно, что дети совершенно не сомневаются в существовании Бога. Их еле мерцающее сознание тем не менее как-то способно охватить идею Божества.
Слова Спасителя «утаил еси сия от премудрых и разумных и открыл еси та младенцем» открывают законное поле для весьма нужных догадок.
Младенческая душа, начав рано свою религиозную жизнь, может еще в младенческом возрасте пойти очень далеко в религиозном своем развитии. Она может созерцать те тайны, в созерцание которых погружены, например, знаменитые два Херувима на картине «Сикстинская Мадонна» Рафаэля, что Рафаэль поставил как бы на границе двух миров.
Были случаи в годы гонений, что грудные дети рвались сами на те пытки за Христа, которым подвергали их родителей, и являлись, таким образом, сознательными исповедниками и мучениками.
Кому приходилось наблюдать за выражением лица у младенцев, когда их только что приобщили, тот мог уловить на этих, в общем мало выразительных, лицах какую-то особую печать святой непорочности, радости и созерцания...
И вот то, что душа чувствует сама собою, к чему она сама поворачивается, как подсолнечник к солнцу, все это надо в детях укреплять, развивать, углублять.
С самого раннего, нежного возраста детей нужно возможно чаще, хоть всякую неделю, приобщать. Как прививать дичку ветку благородного дерева, так ничем лучше нельзя сделать душу гроздью на Христовой лозе, как возможно частым ее погружением за трапезой Христовой в святыню Христову.
Известный в Петербурге духовник и проповедник, почивший протоиерей отец Алексей Петрович Колоколов рассказывал, как одна его духовная дочь была выдана за богатого титулованного человека, который обнаруживал признаки душевной болезни. Доктора боялись, что дети выйдут ненормальные.
Со своей стороны отец Алексей предложил то, что было в его руках — средство духовное. Он советовал матери возможно чаще с первых же месяцев рождения приобщать тех трех мальчиков, которые у нее были от этого брака. И все они вышли вполне здоровыми и естественными людьми.
Детскому возрасту, конечно, непонятны разные догматические тонкости, которые им совершенно излишне и объяснять. Но в детях надо внедрять живое чувство к Богу. Чувство, что есть высшее, всемогущее, прекраснейшее Существо, Которому все открыто, Которое всегда готово выслушать человека и откликнуться ему.
И пусть сперва ребенок обращается к Богу со своими детскими, с виду пустыми и ничтожными, просьбами; это и есть та простая и непосредственная вера, та крепкая вера в Него, которая потом, конечно, с созреванием человека, примет иной оттенок.
В одном из благоухающих созданий русской литературы, принадлежащих перу человека, который, к сожалению, потом изменил Христу, в «Детстве» и «Отрочестве» графа Л. Н. Толстого, есть прекрасное описание детской молитвы, как, стоя в своем халатике, он помолится о папеньке и маменьке и вспомнит тут разом о всех людях, кто ему дорог в его детском мирке, и тут же попросит, чтоб завтра была хорошая погода и чтоб можно было идти гулять.
В «Войне и мире» брат и сестра Ростовы взрослыми вспоминают, как детьми они молились, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на мороз смотреть, не случилось ли этого чуда по их молитве.
И вот когда Николай, уже офицером, молится однажды, чтобы Бог помог ему выпутаться из одного очень сложного и тягостного положения, — во время самой его молитвы он вдруг получает письмо, которое нежданным и наилучшим образом все устраивает.
Детская безотчетная молитва со странными своеобразными просьбами обращается в сознательную молитву зрелого возраста.
В деле воспитания детей имеет громадное значение окружить их атмосферою веры и привить им добрые благочестивые навыки.
Вера искренних людей подчиняет себе других, невольно передается, перенимается, особенно в детском восприимчивом возрасте.
Я знаю одну семью, где при детях прожила с год бонна, русская девушка из Калуги, очень набожная. У нее в комнате висели у кровати образки, привезенные ею с собой из Калуги. Она постоянно говорила детям «о Божественном». Не отлучаясь от детей весь день, она, и в будни часто бывая в церкви, рано подымалась, чтобы идти к заутрени и ранней обедне. От нее дети услыхали в первый раз имена многих святых; она им рассказала о Саровской пустыни и о великом старце Серафиме, кормившем из своих ручек медведя, об Оптиной и ее старцах. Всякое утро после общей молитвы она поила детей натощак из маленькой рюмочки святою водою и давала им по кусочку тех просфор, которые приносила с собою из церкви.
Всего год провела она в этой семье, так как служила для того, чтобы скопить себе на приданое — в родной Калуге ее ждал жених.
Но след, оставленный ею и церковной ее жизнью в душе детей, был глубок и не изгладился во всю их жизнь.
В этой же семье по летам дети гащивали в большом имении пожилой тетки, не вышедшей замуж. Она была тоже женщина набожная и церковная, и такими же были служившие ей женщины.
Когда дети приходили по вечерам прощаться с тетушкой, они неизбежно заставали у нее старую ее ключницу, полуглухую старушку, с семи лет служившую при господах.
В это время происходило всегда обсуждение, за кого подавать на завтрашнее утро за ранней обедней просфоры и кого поминать за панихидой.
Старушка-ключница всякий день бывала у обедни и ежедневно подавала поминовенные просфоры «о здравии и за упокой». Часть имен, ближайших родных, поминались ежедневно, а часть в известные дни — дни именин, рождений и смерти: все эти памятные дни у госпожи ее были аккуратно записаны в особую книгу.
Зимою иногда тетушка брала с собой одного из маленьких племянников, обнаруживавшего особую набожность, с собою в Троицкую лавру под Москвой, где у нее были схоронены родители.
Дети знали о Лавре и о преподобном Сергии с первых сознательных годов своих. У них была старая бабушка, доживавшая свой век на окраине Москвы, неподалеку от женского монастыря, где ждал ее последний приют. Ежедневно старая раскормленная лошадь, которою правил старый почтенный кучер, привозила в просторных дрожках или низких санях бабушку к монастырскому собору. Отсюда, отстояв обедню, она, опираясь на клюку, медленно шла своим старческим шагом к «могилкам» — мужа, незамужней дочери и сына, умершего мальчиком, соединения с которыми она покорно ждала в своей тихой и ясной старости.
По большим праздникам, несколько раз в год, ее старший сын привозил своих детей к матери, и в жарко натопленных маленьких и низких уютных комнатах, уставленных тяжелою семейною мебелью, устраивался обед.
Детей интересовали и старые большие иконы в дорогих окладах в бабушкиной спальне, и бесчисленное множество горшков со свежей, прекрасно содержавшейся зеленью и цветами на бабушкиных окнах, и старый серый бабушкин кот, тихо мурлыкавший на своей неизменной скамеечке с мягкой подстилкой, и на стенах старые портреты, навешанные чинно и в порядке, всякого размера, и масляными красками, и водяными, и забавные дагерротипы на стекле, и старинная посуда.
Бабушка вела беседу медленную и тихую. Она любила вспоминать о разных подвижниках, которых знавала; рассказывала о святых местах, так как была охотница посещать их, и о тех чудесах, о которых за последнее время где-нибудь вычитала или услыхала. И от всех ее рассказов, с этой мирной обстановкой ее дома, что-то тихое, успокаивающее, полное доверия и предчувствия близкой вечности, вкрадывалось в душу, навсегда прокладывая в ней глубокую борозду.
После обеда дети шли обыкновенно в комнату к старой слепой бабушкиной служанке Нениле, жившей на покое. Нениле было много-много лет. Она была из подмосковных крестьян и хорошо помнила «француза», так как в двенадцатом году она была взрослой девушкой.
Дети усаживались рядком на мягкую кровать Ненилы, а старушка, никогда не сидевшая без дела, двигая спицами, в сотый раз рассказывала своим неспешным старческим голосом про разные истории «с французом».
Теплая светелка с большой изразцовой лежанкой была в полусумраке надвигающегося вечера мирно озарена огнем лампадки. Освещенная ею, проступала позолоченная резьба ветвей дешевого киота. По стенам в старых рамах висели подаренные уже давным-давно бабушкою Нениле выцветшие одного и того же размера гравюры с разными событиями из жизни преподобного Сергия Радонежского.
Первая изображала, как Ангел является под дубом Преподобному в детстве и как мальчик стоит пред Ангелом со сложенными руками для принятия благословения, с уздечкой, висящей у локтя. На одной Преподобный месил тесто для просфоры. На другой — смотрел чрез окно кельи на множество птиц, наполнявших пространство монастыря, в предсказание множества учеников его. На третьей, сидя на обрубке пня в келье, занимался портняжничеством. На четвертой — чудесно изводил из земли источник воды. На пятой — посещала его Богоматерь. Была еще картинка, как его приобщают пред смертью. И еще — как он при осаде монастыря поляками обходит монастырские стены, окропляя их святою водой.
И, смотря на эти картинки, дети принимались расспрашивать Ненилу о том, сколько раз она ходила «к Троице» на богомолье и какие с ней по дороге бывали приключения.
Вот где и как узнали дети о преподобном Сергии Радонежском. И для того мальчика, которого тетушка брала с собой в Троице-Сергиеву лавру, эти поездки были полны какой-то особой привлекательности.
Раннее-раннее вставание, чтоб попасть на поезд, который идет в начале седьмого часа, быстрый проезд по знакомым улицам Москвы, в этот час имеющим какой-то необычный вид, точно они другие; в поезде думы об этом великом отшельнике, — как он не мог усваивать себе того, чему его учили, и как ему явился Ангел, чтобы просветить его ум (картинка в комнате бабушкиной Ненилы), как он покоил своих родителей до их смерти и как потом ушел в этот дремучий лес, как искушали его злые духи и как он благословлял Дмитрия Донского идти на Мамая.
А потом приезд в Лавру; знакомый извозчик, всегда ездящий с тетушкой, в просторных санях; знакомая дорога в гору, и, наконец, лаврские святые ворота.
А там чинная служба, «заказная» обедня для них в одной из маленьких церквей и панихида с литией наруже, пред высокими тяжелыми памятниками на могилах родных. Потом Троицкий собор, рака Преподобного в великой славе, вереницы богомольцев, нескончаемые возгласы молебнов — «Преподобне отче Сергие, моли Бога о нас», сияние множества огней вокруг раки, как отблеск ликующей вечности, чувствуемые тут, слагавшиеся к этой раке длинною чредою веков народная вера, слезы, стоны, моления, и стоящий в святом воздухе этого священного места торжественный, неизгладимый отзвук, когда-то прозвучавшей здесь блаженной вести — «Се, Пречистая грядет!» — когда-то произнесенного здесь великого обетования: «Неотступна буду от места сего и буду покрывать его»...
И как все эти впечатления западают в душу, чтобы никогда не выпасть из нее!
А потом могила митрополита Филарета, который бывал в доме бабушки и о котором столько рассказов и воспоминаний на Москве; знаменитые троицкие просфоры, забираемые в большом количестве, с надписью имени на обороте, сделанною гусиными перьями в руках послушников за длинным, черным столом около просфорной; поездка к Черниговской лесом, по которому, конечно, бывало, пробирались к преподобному Сергию тяжелою стопою медведи за хлебом, и в подземной церкви большая чудотворная икона...
Вот что нужно детям, чтобы внедрить в них крепко религиозное чувство.
Последующие бури могут временно умалить, порастрепать это чувство, но все же основа останется, и, как на величественном, далеко в землю ушедшем фундаменте разрушенного дворца можно выстроить снова дворец еще краше, так человек, переживший в детстве всю полноту религиозных чувств, — несмотря ни на какие последующие искушения отрицания и равнодушия, — всегда может обратиться к Богу с еще большим пылом и едва ли умереть далеким от Бога.
С самого раннего возраста надо приохочивать детей к духовному чтению.
Я знаю человека, который всю жизнь имел большое сочувствие к монашеству и монахам. Это сочувствие зародилось в нем в раннем еще детстве.
Ему было лет пять, и он еле читал по складам, когда ему попались в руки какие-то обрывки из одной духовной книги крупной печати. Но в этих обрывках было полное краткое житие преподобного Феодосия Печерского, и мальчик с восторгом прочел его, особенно те страницы, где описано, как в детском возрасте подвижничал преподобный Феодосий, как надевал на себя вериги и как преследовала его мать.
Я знал еще мальчика, который выказывал большое сочувствие пешим богомольцам.
В этой семье возили детей весною и осенью, до переезда в деревню, кататься и гулять в парк, за заставу, где проходят богомольцы, пробирающиеся к преподобному Савве Сторожевскому и в Новый Иерусалим, или возили чрез Крестовскую заставу в Останкино, по шоссе, где попадаются вереницы богомольцев, направляющихся к Сергию-Троице.
Этот мальчик любил заговаривать с богомольцами, жалел их, что они идут пешком и тащат еще на спине тяжелые котомки. Денег у него, хотя его родители были богаты, не было по его возрасту ни гроша, но у него бывали с собой карамельки, которые им давали на дорогу. Эти карамельки он и отдавал богомольцам. А раз, отдав им свои и разойдясь с ними на далекое расстояние, он уговорил братьев отдать ему и их карамельки и опрометью принялся догонять богомольцев, чтоб вручить им это сокровище, — сопровождавший их учитель торопил их садиться в коляску, чтоб вернуться домой.
Все вот такие черты детской жизни и образуют обстановку, благоприятную для развития и укрепления веры.
И часто не те лица, которые гордо полагают, что они руководят ребенком, — часто не эти вовсе лица направляют душу и жизнь ребенка по тому или другому руслу.
Вспомнить лучезарное создание Тургенева — Лизу Калитину из «Дворянского гнезда», один из высших русских литературных типов.
В чопорном, холодном и скучном доме ее родителей не лживо-сентиментальная ее мать и не погруженный в свои своекорыстные расчеты отец направляли жизнь чуткого ребенка.
Около девочки стояла незаметная няня Агафья, женщина цельной души и крупной веры, одна из тех, которыми держится мир Святой Руси. Стояла и заботливой рукой вела девочку ко Христу. Те службы, к которым на заре, в задумчивую и загадочную пустоту церкви водила няня маленькую Лизу, те рассказы, в которых с бесхитростною верою своею она описывала страдания мучеников и как цветы подымались вдруг из земли, орошенной их кровью (—Желто-фиоли? — доверчиво спрашивала девочка): все это вырабатывало постепенно в Лизе то тайное, громадное чувство к Богу, которое потом, при крушении ее несмелых земных надежд, заполнило всю ее жизнь, — то чувство, о котором так просто, потрясающе и исчерпывающе выражается Тургенев:
«Бога одного любила она робко, восторженно, нежно»...
Тип Лизы Калитиной, питомицы няни Агафьи, как бы парит над землей, и жизнь ее стоит на той грани, где кончается земная повесть, где начинается житие праведницы.
Другой бессмертный образ русской женщины — Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Пушкина. И здесь точно так же нам ясно духовное воздействие простой русской женщины, няни, которая, неграмотная, бедная крестьянка, имела свое цельное, непоколебимое воззрение на жизнь, как на поле долга и чести, и привила это воззрение своей питомице.
Таня, взрослая годами, но ребенок душой, открывает няне свою тайну, никому еще не высказанную, о любви своей к Онегину. И как принимает старушка это признание в любви, которое принесло Тане столько горя.
—…няня, няня, я тоскую…
Я плакать, я рыдать готова!..
— Дитя мое, ты нездорова;
Господь, помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь... — Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена.
— Дитя мое. Господь с тобою! —
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.
Поэт не много кладет черт, чтобы уяснить нам душу Татьяны, и особенно целомудренно мало говорит он об ее верованиях. Но во всей этой краткости широкие горизонты Татьяниной идеальной души, для которой и любовь была чистым восторгом и поклонением тому, что казалось ей самым высоким и прекрасным из всего, что она доселе встречала, — широкие горизонты этой души открывают ее слова о том, что прежде своей встречи с Онегиным она его уже предчувствовала:
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души?
И в это самое мгновенье
Не ты ли, милое виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Так в Татьяне мысль о любимом человеке совпадает с молитвой, ибо все, что есть в глубоких людях лучшего, — все то у них соединено с вечностью. И, конечно, в несчастном браке своем думая об Онегине, она мечтала о том, как вне тягостных условий земли они встретятся в вечности.
И что ее простая бесхитростная няня имела большое влияние на образование цельного миросозерцания Татьяны, видно из того, что в минуту нравственного апофеоза своей героини, в отповеди ее Онегину, как укрепляющую ее силу, Пушкин влагает в нее память о безвестной ее няне.
Совершив то дело, к которому призвал ее Бог — развитию души человеческой воистину «по образу и подобию Божию», смиренная старушка отошла к Богу, возносящему смиренных, и была положена среди таких же, как она, безропотно принесших жизненную страду тружеников. И светлая тень ее еще раз мелькает пред читателем, когда в ответе Онегину Татьяна вспоминает:
…смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...
Вот откуда черпали свою немногоглаголивую веру люди, воспитанные такими нянями и дядьками (Савельич из «Капитанской дочки», Евсеич из С. Т. Аксакова).
* * *
Очень важно детям иметь с раннего возраста общение с выдающимися духовными людьми.
Не будет ли отличаться своею возвышенностью строй такой семьи, как была семья великого князя Димитрия Донского, которого пестуном и наставником был митрополит святитель Алексий, советчиком — преподобный Сергий Радонежский, духовником — его племянник, святой Феодор (впоследствии архиепископ Ростовский). Тут и выработалась та сила духа, которая помогла Димитрию выступить против Мамая, — предприятие в высшей степени опасное — с верою в успех. А супруга Димитрия, великая княгиня Евдокия, во иночестве Евфросиния, сияет в сонме русских святых.
Счастлива та семья, которая имеет общение с каким-нибудь старцем высокой жизни, и в высшей степени важно для детей иметь пред глазами образ совершенного человека.
Такие люди, какими были недавно жившие среди нас и памятные еще многим далеко не старым людям старцы Амвросий Оптинский, отец Варнава (из скита Черниговской Божией Матери под Троицей), великий священник Божий отец Иоанн Кронштадтский: общение с ними давало молодежи, главным образом, два основных впечатления.
Первое впечатление — это счастье их трудовой и подвижнической жизни.
Всякому бросалась в глаза бедная обстановка первых двух, множество людей, нескончаемою волною сменявшихся пред всеми этими тремя подвижниками. Все видели, что они постоянно в трудах, обуреваемы народом, который нес им свои сомнения, тягости, грехи, требуя от них разъяснения, облегчения, разрешения. Видели, как старец Амвросий последние годы жизни доходил до такой усталости, что голова его, уже не поддерживаемая шейными позвонками, заваливалась назад и слова вылетали с трудом из уст чуть слышным шепотом, так что, приникнув ухом к его устам, еле можно было понять, что он говорит. А между тем какою он был полон радостью, какой дышал благодатью утешения!
И невольно тогда начинало складываться пред этим живым и ярким доказательством убеждение, что счастье жизни не во внешних блестящих условиях жизни, а счастье в том, как проводил и проводит свою жизнь этот изможденный, изнемогающий, но светлый и радостный старец.
Еще же, глядя на этих людей, должно в молодой душе возникнуть ясное предощущение небесной жизни. Ибо такие люди как бы сами носят в себе живые куски неба и дают всякому соприкасающемуся с ними человеку непосредственное ощущение этого неба.
Когда отец Иоанн молился, вы чувствовали, что он стоит как бы непосредственно пред Богом, схватившись за Его ризу и решив не выпускать из рук своих этой ризы, пока не будет услышан. И с ними — нет уже места сомнению.
Или когда, сияя своим старческим благолепием, озаренный изнутри шедшими от него лучами, стоял пред вами сгорбленный семидесятилетний старец Амвросий, тихо смотря вам в душу своими прозорливыми глазами, — то вокруг было такое необычайное торжество, такое счастье, такая безмятежность и радость, что небо, о котором только робко мечтается, — тут вами чувствовалось так, как будто на эти минуты вы уже были не на земле.
Конечно, этим идеальным способом для внедрения религиозности, знакомством со старцем и нахождением под его руководством, может пользоваться только избранное и ничтожное меньшинство, так как вот сейчас, кажется, и нет ни священника духовной силы отца Иоанна, ни старца высоты отца Амвросия.
Тогда, по крайней мере, пусть будет у детей хороший, заботливый и ревностный духовник.
В Москве был почтенный и заслуженный протоиерей, настоятель известного великолепного храма святителя Николы Явленнаго на Арбате отец Степан Михайлович Зернов, обращавший близкое внимание на детей своих прихожан.
Весьма благолепный старец, он служил с таким чувством, что иногда из-за душивших его слез еле мог произнести возглас. По московскому обычаю, обходя «со крестом» дома прихожан во дни больших праздников, он разговаривал с детьми и, между прочим, требовал, чтобы они знали наизусть тропари и кондаки тех праздников и тех святых, которым были посвящены все пять алтарей его храма.
На весь этот маленький народ сильное впечатление произвела его кончина: он умер на освящении одного храма. Только что приобщившись, отошел к жертвеннику и упал мертвым.
* * *
Какое важное, захватывающее событие для детей — первая исповедь. Значение этого события в жизни ребенка станет еще выше, если взрослые хорошенько объяснят ему, к чему он приступает.
Совестливый набожный ребенок с чрезвычайною тщательностью роется в своей совести, выискивая на ней мельчайшие пятна. Груз его ничтожных детских проступков кажется ему страшным; вины его пред Богом — бесконечными. Он трепещет пред Божиим судом. Сомневается, допустит ли его священник до причастия.
Заботливый духовник сумеет воспользоваться этим настроением, чтобы углубить его.
Не все одинаково согласны с тем, что полезно, если законоучитель является и духовником. Чем больше возраст детей, тем труднее им быть вполне откровенными с человеком, которого они постоянно видят в обыденности. Бывали к тому же такие ужасные случаи, что духовники-законоучители, которым дети покаялись в осуждении их в классе, потом придирками и дурными отметками мстили этим откровенным и правдивым детям.
Вот дано отпущение грехов, и какая чистая радость сходит на душу ребенка! Какие даются в душе клятвы не делать ничего-ничего дурного, чтобы быть достойным Бога и всегда готовым к причастию!
Если ревностные родители часто приобщают детей грудных, то чем далее удаляются дети от этого первоначального возраста, тем реже их приобщают.
Это совершенно неправильно, и такие родители обнаруживают глубокое непонимание. Можно ли думать, что благодать менее нужна шестилетнему ребенку, чем трехмесячному?
И до исповеди, и после нее надо подводить детей ко святой чаше возможно чаще. Надо всеми силами стремиться к тому, чтобы к возрасте, еще далеком от всех искушений, человеческая душа ощутила такую сладость, даваемую здоровою духовною жизнью и участием в Таинствах, чтобы потом в самом воспоминании этих высоких блаженных минут заключалась сдерживающая и охраняющая против всяких соблазнов сила.
Очень важно приучить детей к мысли, что и в их возрасте многие дети угодили Богу и были причислены Церковью к лику святых. Важно также, чтобы дети узнавали, как прошло детство тех людей, которые в зрелом возрасте стали великими праведниками. Ведь детство их было приготовлением к их последующей высокой жизни.
Существует такое описание относительно русских святых. Надо надеяться, что то же будет выполнено и относительно общецерковных святых.[2]
Есть трогательное стихотворение Некрасова «Школьник», где барин, посадив к себе в повозку встречного мальчика, который босым бредет в город на учебу, говорит ему:
…сам узнаешь в школе, —
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.
Жития святых детей и повесть о детских годах святых покажут детям, как и в их возрасте можно стать угодником Божиим. В видении, которое в «Борисе Годунове» Пушкина передает патриарх со слов пастуха, прозревшего у гроба царевича Димитрия, есть умилительные слова.
— Но кто же ты? — спросил я детский голос.
— Царевич я Димитрий. Царь Небесный
Приял меня в лик Ангелов Своих
И я теперь великий чудотворец!
Праведный Артемий Веркольский был таким же маленьким мальчиком, но не царского рода, а из бедной крестьянской семьи. Бог и его сделал «великим чудотворцем».
Этот мужичок, убитый молнией во время работы на поле, конечно, любил Бога тою особою всеобъемлющею любовью, которая творит святых. Больше у него не было ничего, и этого было для Бога достаточно.
Все, что облагораживает, умягчает человека, — все то должно быть призвано в деле борьбы за детскую душу.
Пусть лягут на нее возвышающие впечатления торжественных церковных служб — особенно таких, которые отличаются своею образностью, как службы Вербной субботы, Страстной недели, Пасхи, Троицы, Богоявления.
* * *
Пусть с ранних лет научатся дети уделять часть своих скудных денег на бедных.
В одной семье к ее главе два раза в год, на Рождество и на Пасху, приходил старый-престарый старичок и приносил для детей: на Святки — белых, обтянутых мехом зайчиков, а на Пасху — сахарные, полые внутри, яйца с украшениями из золотой бумаги.
Глава семьи принимал его наедине в своем кабинете, беседовал с ним не менее четверти часа, хотя вообще был человек очень занятой. Старичок уходил от него радостный — хозяин давал ему помощь, достаточную на целые полгода. Тогда он отправлялся к детям. Они удивлялись его старости и бывали ему очень рады.
Доподлинно никто не знал, как и почему встретился старичок и их отец, и ни тот ни другой об этом определенно не говорили, и оба отвечали уклончиво, когда их о том спрашивали. Но, по некоторым догадкам, отец их знал старичка, когда сам был еще учащимся, очень небогатым человеком, и тогда начал помогать ему, урезывая себя.
Но, как бы то ни было, и дети со своей стороны совали ему серебряные монетки и разные сладости — конфеты, чернослив, орехи, которыми в эти дни были богаты, — все это для его внуков, о которых он рассказывал.
Так начинался день великого праздника.
И на всю жизнь, в память праведного отца своего и в память счастливого своего детства, они, выросши, сохраняли теплую жалость к старикам и к детям и помогали им чем могли.
* * *
Если у ребенка чуткая душа и он рано узнает страдание, это один из самых верных путей к Богу.
Страдание бесконечно в разнообразии своем. Это далеко не всегда сиротство и бедность. И в детском возрасте горючие слезы могут литься через золото.
Бывают дети, особенно идеально настроенные, с тончайшей душевной организацией. Они могут иметь восторженную привязанность к своим родителям, и вдруг узнают про этих родителей что-нибудь такое позорное, что для этого возраста, рассуждающего прямо и не знающего жизни, совершенно унижает родителей в их глазах. — И какая тут мука — любить и быть вынужденным презирать!
Или ребенок, с робкою, но страстною жаждою привязанности, окружен холодностью. — Родители заняты делами и развлечениями, так что забывают о детях, и никто не присмотрится к тому, что творится в маленьком обособленном сердце, ревниво прячущемся от людей... И ребенок растет, питаясь своими тайными слезами.
Мой мир был мир иной: не мир волшебной сказки
И первых детских снов. — В полуночной тиши
Он создан был в груди безумной жаждой ласки,
Он вырос и расцвел из слез моей души.[3]
И вот тут к кому кинуться, кому довериться? Кому без стыда, без утайки можно открыть всё-всё, кротко и безропотно жалуясь, прося утешения, прося сил...
О, если б знали взрослые!
Если б они знали, что под их крышей живет им близкое по крови, но заброшенное ими разумное и беззащитное существо, которое они мучают без всякой его вины. Если бы они знали, что в те часы, когда все засыпает и небо зрячее всматривается в землю, — если б они знали, что тогда маленькие страдальцы, пугливо прислушиваясь, не догадается ли кто об их печальной тайне, надрывают слабую грудь сдержанными рыданиями, и горе это, великое неизбывное горе, окружает и невыносимо теснит их со всех сторон.
Захлебываясь в слезах, дрожа всем телом, что бы дали они тогда за один ласковый взгляд, за одно доброе слово!
И тогда происходит одно из невидимых Божиих чудес.
Стерегущий эти души, Христос склоняется к ним, невидимо берет их за руки, прижимает к Себе, как пастух — испуганную, трепещущую овцу.
И все, что было слышано ими о страдании Христа, встает вдруг разом. Они чувствуют, что страдают не одни, и странная острая радость слияния муки своей с мукой Христовой проникает в них.
О эта сладость, сменяющая недавнюю дрожь, страх и одиночество, эти блещущие восторгом глаза, этот шепот непонятных слов, не могущих пересказать Богу всего, что наполняет то сердце, в которое Он вошел и в котором останется!
Эти часы не забудутся. И этих детей никто никогда-никогда не оторвет от Христа...
* * *
Бывают дети, особенно отмеченные перстом Божиим, дети задумчивые, сосредоточенные, милостивые, набожные с первых лет своих.
Однажды в одной из чтимых петербургских часовен мне довелось увидеть милого ребенка лет четырех.
Она была одета во всем белом, и из белого шелкового капора смотрело прелестное лицо в рамке светлых вьющихся волос с темными серьезными глазами.
В ней было что-то важное, сосредоточенное, как это часто бывает в детях, развитых не по летам. Глаза ее глядели тоже внимательно, сочувственно, но несколько строго.
Почтенная пожилая няня держала девочку за руку. Она, помолившись широким крестом у входа, подошла к свечному ящику, купила несколько свечей и стала ставить эти свечи у главных икон. За всем этим красавица-девочка пристально присматривала, точно проверяя, так ли все исполняет няня как надо. Ставя свечу, няня всякий раз подымала девочку с пола и подносила ее к иконе. Девочка тянулась к ней руками, предварительно набожно перекрестясь на руках у няни.
Было отрадно следить за ними.
Когда они обошли все иконы, я спросил у няни, часто ли они тут бывают.
— Да, почитай, всякий день, — радушно ответила няня. — Все меня сюда тянут.
— Что же, Богу любит молиться?
— Ууу… Такая богомолица, а уж иконы как любит; сколько их у кроватки понавешано, и чтоб непременно лампадка горела и не гасла. Огорчается очень, если погаснет. — Вот, тоже до бедных большая охотница. Не позволит ни одного нищего пропустить, чтоб не подать, — маменька ихняя нарочно для того медь припасает: как идем гулять, так сейчас нам и отсыплет.
Так говорила няня, а девочка стояла, сияя своими синими глазами, и какая-то трогательная неземная прелесть излучалась из милого ребенка. То казалось, что она слушает слова няни, то чудилось, что ее душа где-то далеко:
И в светлый сон ее душа младая
Бог знает чем была погружена.
Какая судьба ждет это Божие дитя? Выживет ли она? Приветом ли встретит ее жизнь и ничем не омрачит тихое сияние ее молодости? Или на болезненно чуткое сердце один за другим станут падать тяжелые удары? Но она будет знать тогда, куда ей укрыться. И, как первое обручение ее с Богом, в Котором всегда найдет она утешение, отраду, защиту и силу, — будет ей вспоминаться ее детство, зимний день в столице и сама она, маленькая, ставящая со старой няней свечи в часовне любимым образам.
Беречь таких детей надо, чтоб хоть в те годы, когда еще можно оградить душу от злых вихрей жизни, хоть тогда ничем не была она смущена.
Высшая степень религиозного настроения детей — это когда в них проявляется склонность к пастырству.
Я знал старых благоговейных священников, которые рассказывали про себя, что в детстве они очень любили «служить», то есть произносить богослужебные возгласы на распеве, подражать каждению.
Некоторые не одобряют таких наклонностей, считая проявление таких стремлений у детей за кощунство. Но все дело в том, делается ли это с тем, чтобы только передразнивать духовенство, или делается по непреодолимой внутренней потребности, в самом сосредоточенном настроении.
Вот как однажды взглянула на такого рода дело первенствующая Церковь.
Будущий великий столп истины святитель Афанасий Великий в детстве часто играл со сверстниками своими на морском берегу. Неподалеку находился дом архиепископа, и он порой смотрел на игры детей.
Маленький Афанасий чрезвычайно любил церковные обряды, и ему нравилось исполнять их, подражая тому, что он видал в церквах. И, между прочим, он над некоторыми из своих сверстников-мальчиков, в воде неподалеку от берега, совершал обряд крещения.
Архиепископ остановился на мысли: если обряд совершен с благоговением и верою, можно ли считать, что тут было совершено воистину Таинство крещения? Он собрал по этому поводу совещание, и было решено — вменить этим детям крещение как истинное и считать этих языческих детей крещеными...
* * *
Чудная тайна овевает детство великих святых.
Вот в тишине курской ночи, когда все уже затихло, когда уже утомились и сладкогласные соловьи, в чинно содержимом доме вдовы Агафьи Мошниной не спит старший сынок ее Прохор.
Поднявшись с подушки головой, опираясь на локоть, он прислушивается, нет ли в доме признаков жизни. Ему любо одиночество, чтоб заговорить с Богом.
И вот неслышно встал с постельки, как Ангел с опущенными крыльями, в своей длинной, белой рубашке, прокрался в передний угол.
Старые, тяжелые иконы. На них мирный отсвет ложится от висящей с потолка лампадки.
Стоит — смотрит... Что-то, ему самому неведомое, невыразимое, творится в нем, что-то согревает до жару, трогает до слез, уносит куда-то.
Широко на душе, беспредельно... Любит и своих, и этот дом, и ближнюю церковь с темными углами, где не увидать его, когда он забьется туда за службой, и всю окрестность, и лунное небо со звездами, и эту ночь, и весь мир... И всех хочется обнять и прижать к слабенькой детской груди...
А Богоматерь, Которая через два десятка лет произнесет над этим теперешним ребенком таинственное слово: «Сей рода нашего», — невидимо простирает над мальчиком Свой покров, и те Ангелы, выше которых будет вознесен некогда этот стоящий пред иконами ребенок, неслышно для людей шепчут в тишине умилившейся ночи пророчественное имя:
«Серафим, Серафим...»
Или кто перескажет те чувства, в которых рос под стоны родной земли боярский отрок Варфоломей, будущий вождь своего народа Сергий Радонежский?
Как, страдая маленьким сердцем своим от неизбежного горя отчизны, уже тогда вымаливал он ей ту волю, которую потом добыл ей вместе с князем Димитрием; и как должна была тогда дерзновенно подыматься к небу детская молитва этого будущего «похваления Пресвятыя Троицы».
Или что переживал он в ту ночь, когда вечером получил от явившегося ему Ангела чудесные разумные грамоты, — и вдруг открылось его уму то, что раньше было темным, и он почувствовал в себе какое-то перерождение.
Все это тайны, как есть великая тайна и что-то неуловимое в первой подступи чудотворящей весны.
Но поймем, как свята эта пора жизни и как надо наполнить ее впечатлениями веры, чтоб, даже если человек потом на время и поколеблется, все же сбылись над ним слова поэта:
Молись дитя! Сомненья камень
Твоей души не тяготит.
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.
Молись дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слез твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, Ангел твой Хранитель
Все эти слезы соберет
И их в надзвездную обитель,
К Престолу Бога вознесет.
Молись, дитя. Мужай с летами
И, дай Бог, в пору зрелых лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет.
Но если жизнь тебя измучит
И ум и сердце возмутит,
Но если жизнь роптать научит,
Любовь и веру погасит —
Приникни, с жаркими слезами
Креста подножье обойми:
Ты примиришься с небесами,
С самим собою и с людьми.
И вновь тогда из райской сени
Хранитель Ангел твой сойдет
И за тебя, склонив колени,
Молитву Богу вознесет.
[1] Спаси, спаси Францию во имя сердца Иисусова.
[2] Поселянин Е. Святые дети русские и детство русских святых. Изд. Училищного совета при Святейшем Синоде.
[3] Надсон.
в магазине «Сретение»
![]()