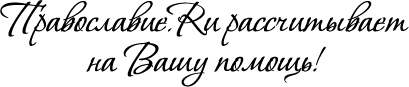Жизнь византийской царицы XIV века Ирины Хумнены Палеологини, принявшей монашеский постриг, основавшей и возглавлявшей монастырь Спаса-Человеколюбца, изобилует яркими контрастами и отнюдь не помещается в разряд обыкновенных. О том, какую роль сыграло богатство в жизни этой неординарной византийской аристократки и как повлияло на ее духовное делание, повествует доктор богословия профессор А.И. Сидоров.
 |
| Сидоров Алексей Иванович |
Жизнь этой яркой личности представляется отнюдь не совсем обычной[1]. Рожденная в 1291 – 1292 гг., она была второй дочерью известного вельможи и изысканного эрудита Никифора Хумна – одного из самых приближенных лиц к особе императора Андроника II[2]. Воспитываемая им и благочестивой матерью, Ирина купалась в родительской любви и благожелательной атмосфере дружной семьи[3]. От природы богато одаренная, живая и эмоциональная, она особенно сдружилась со своим братом Иоанном – личностью также неординарной: впоследствии он стал талантливым военачальником, солидным юристом и довольно известным ритором[4]. Впрочем, счастливое детство Ирины в лоне любящей семьи продолжалось недолго: в 1303 году она, в возрасте всего 12 лет, становится женой старшего сына Андроника II, деспота Иоанна, который являлся наследником императорского престола. Отец, достигший вершины своего могущества и политического влияния писал, что ни одна из дщерей ромейских не имела такой чести, как его собственная дочь (PG, 111, 1445 – 1446). Богатство, слава и всеобщее почитание нежным туманом обволакивали юную царевну. Однако, Промысл Божий уготовал Ирине совсем иную судьбу, чем царственная порфира. В 1307 году ее молодой муж внезапно умирает. Оставшись вдовой в 16 лет, Ирина, по совету митрополита Феолипта Филадельфийского[5], ставшего ее духовным отцом, и вопреки сопротивлению родителей, решается отречься от мира и принимает монашеский постриг с именем Евлогии. Раздав часть своего имущества бедным и уделив значительную сумму денег на выкуп пленных, она заново отстроила обитель, основанную в начале XII века императрицей Ириной Дукой, супругой Алексея I Комнина, которая позднее пришла в запустение[6]. Обитель, находившаяся в самом сердце Константинополя недалеко от Святой Софии, получила наименование «Человеколюбца Спаса» и представляла собою двойной монастырь, то есть соединенные под общим управление женский и мужской монастыри. Хотя подобного рода двойные обители не приветствовались, и даже прямо запрещались, в Византии, но в конце XIII - начале XIV веков наметилось их некоторое возрождение[7]. Духовником этой обители стал свт. Феолипт Филадельфийский, который (до своей кончины в 1322 году) окормлял ее как лично во время своих визитов в столицу, так и письменно – посредством писем и сочинений, адресованных монахиням и монахам обители. С этим монастырем была связана вся последующая жизнь Евлогии. Именно сюда, следуя установившемуся византийскому обычаю[8], перед смертью удалились ее родители, также принявшие монашеский постриг. Находясь в своей обители, Евлогия, унаследовавшая огромное состояние своего мужа, родителей и почившего брата, постепенно обретала все более и более сильное влияние на религиозную, общественную и политическую жизнь не только столицы, но и всей империи, которая, правда, клонилась к своему закату. Когда разразились исихастские споры, Евлогия решительно встала на сторону оппонентов свт. Григория Паламы, оказывая всяческое покровительство Акиндину и его сторонникам[9]. В обители Спаса Человеколюбца влиятельная игуменья и скончалась вскоре после 1355 года.
Такова внешняя канва жизни этой несомненно неординарной византийской аристократки. О внутренней духовной жизни ее и, в частности, о том, как пыталась она стяжать Царство Небесное, можно судить по ряду источников, из которых главными являются послания святителя Феолипта к Евлогии и переписка ее с неким монахом, которого она избрала себе в духовника спустя много лет после смерти Филадельфийского митрополита. Что касается посланий святителя, то их сохранилось пять, из которых первое написано в 1307 году, то есть вскоре после смерти деспота Иоанна, мужа Ирины Хумненой, а остальные четыре – непосредственно перед кончиной свт. Феолипта – в 1321 – 1322 гг.[10] Особо примечательно первое послание, в котором митрополит, понимая состояние молодой вдовы, намечает духовные ориентиры ее будущего жития. Данные ориентиры предполагают тесное сопряжение отрицательного и положительного моментов. Отрицательный момент связан преимущественно со стеснением плоти: оставлением «телесной приятности» (τὴν του̑ σώματος ἀπόλαυσιν), ограничением широты потребностей, угнетением плоти добрыми трудами, понуждением себя во всем (βίαζε σεαυτήν ἐν πα̑σι) и постоянным «упражнением в узком [пути]». Или, как говорит святитель: «Поражение плоти приносит победу душе, а разумное угнетение тела отверзает источник радости в духе». Отрицательный момент аскезы предполагает и как бы «социальное измерение». Своей духовной дщери митрополит советует: «Оставь частые беседы во дворце, отпусти множество слуг, избегай льстивой суеты». Рука об руку с этим отрицательным моментом идет и момент положительный, который предполагает в первую очередь усердное ревнование о том, чтобы сочетаться со Христом в духовном супружестве. Характерно, что такое ревнование мыслится в связи с упражнением в молитве Иисусовой, то есть в связи «с постоянным призыванием имени Его», что указывает на широкое распространение в начале XIV века практики этой молитвы. Особый акцент ставится на стяжании памяти смертной: «Одинокой будешь положена во гроб; одинокой предстанешь на Страшный Суд, хотя и воскреснешь вместе со всеми; одинокой будешь представлять [на нем] оправдание жизни своей. Не будет у тебя ни одного защитника: ни родителей, ни сродников, ни тех, кто [здесь] заискивает [перед тобой], следует [за тобой] и сопровождает [тебя]. Одни только добрые дела и прямодушная совесть будут естественными ходатаями твоими». Таким образом, первое послание свт. Феолипта только намечает перед юной вдовой тесный и узкий путь к Царству Небесному, не указывая на многочисленные трудности и препятствия, которые встретятся на нем. Некоторые из этих препятствий (хотя, естественно, не все) отмечаются в последующих посланиях.
В данном отношении особенно показательны третье и четвертое послания. Святитель обращается в них к Евлогии, уже имеющей многолетний (около 14 – 15 лет) опыт монашеской жизни и опыт управления монастырем. И несмотря на это, он в указанных посланиях мягко и деликатно указывает своей подопечной на ее еще духовную незрелость. Прошлое своими крепкими узами жестко сковывало молодую, только достигшую тридцатилетнего возраста, игуменью. Поэтому престарелый архипастырь и обращается к ней: «Ты еще [наслаждаешься] прогулкой по весне благополучия и питаешься утешением, [получаемым] от родителей, братьев, сродников, друзей и всех знакомых; получаешь удовольствие от благоуханий похвал, и услада расслабленности (ἡ τη̑ς ἀνέσεως τέρψις) владеет тобой. Это притупляет [твое] ведение, делает косным волю (τὴν γνώμην - или: разумение) и заставляет цепенеть произволение (τὴν προαίρεσιν), [то есть ослабляет те способности], которые подготавливают [человека к преодолению] трудностей». Вероятно, ностальгия по прошлой богатой роскоши и изнеженности великосветской расслабленности болью пронзала сердце Евлогии, поскольку духовник пишет: «Продала ты все имения свои и оставила родителей, братьев, сродников, друзей, знакомых, деньги, дома, земельные владения и само тело свое. Вместо этого ты обрела драгоценную жемчужину (Мф.13:46) – Христа, Который есть всяческое благо и превышает всякое благо (τὸν ὄντα πα̑ν αγαφὸν καὶ ὑπὲρ πα̑ν αγαφόν). Чего тебе не хватает и чем ты недовольна? Чего ты лишена и чем ты раздражена?». Судя по дальнейшему рассуждению, причина недовольства и раздражения игуменьи лежала в неполноте разрыва с миром: она имела живую связь с родственниками и близкими, не порвав полностью и с «обыкновением мира» (τὴν συνήθειαν του̑ κόσμου). Не полностью отказалась Евлогия и от своего огромного богатства[11], вследствие чего между ней и сродниками возникли какие-то имущественные раздоры. Иначе вряд ли бы митрополит стал писать ей: «Если же ты, отрекшись от всего этого, видишь ныне, что [твои] родители [вновь] отнимают некогда отданное тебе (τω̑ν πραγμάτον) и отворачиваются от тебя, а также видишь кого-нибудь, задумавшего отнестись с презрением к тебе, то приходишь в замешательство и смущение. Порой копья печали, гнева и памятозлобия уязвляют тебя, а порой ты сама пускаешь в собеседников [острые] стрелы прекословия с языка своего». Видимо, даже частичный отказ от богатства повлек за собой для Евлогии определенное понижение ее социального статуса, вследствие чего некоторые люди, пресмыкавшиеся ранее перед будущей царицей, стали позволять себе относиться к ней с пренебрежением, возбуждая в Евлогии печаль мирскую (2 Кор.7:10). Поэтому понятно увещевание свт. Феолипта: «Похищающие принадлежащее тебе и презирающие тебя [на самом деле] скорее чинят вред [самим себе]…». Они «расторгают узы твои и проторяют тебе путь к духовной свободе, а презирающие тебя сохраняют тебя нетщеславной. И смотри, как это устраивается: презираемая, ты страдаешь, а страдая – познаешь позор славолюбия. Ведь когда тебя окружали лестью, ты не ведала о сокрытом в тебе [зле] и служила [ему], но [теперь], будучи ввергнута в печаль и смятение бесчинством и презрением, ты познала это. Ты вскармливала дикого зверя [в себе], будучи почитаемой и исполняя [свою] возлюбившую мир волю (τὸ φιλόκοσμον θέλημα), - и тебе казалось, что ты пребываешь в мирном состоянии и являешься бесстрастной. Когда же тебя оскорбили, обидели и уязвили презрением, то дикий зверь восстал, разрывая тебя на куски, озлобляя, терзая тебя, разжигая гнев и ввергая в памятозлобие». Таким образом, мудрый митрополит показывает своей духовной дочери, сколь тесно она еще связана с этим миром, где нет ничего постоянного, где все так зыбко и ненадежно. И тем не менее человек пытается найти в этом мире прочное основание бытия, уповая на такие тщетные вещи, как, например, высокое социальное положение и богатство. О последнем святитель пишет: «Богатии века сего нищают и алчут (Пс.33:11), поскольку вводятся в обман желанием тленных [благ] и поскольку им кажется, что они владеют тем, над чем невозможно [на самом деле] властвовать. Поэтому там они будут алкать и мучиться, так как лишились истинного богатства, возлюбив текущую материю (τὴν ῥέυυσαν ὕλην) и обманчивое удовольствие [прелестей] преходящего века, которые ткутся и рассеиваются словно постав паучинный. Впрочем, подобные [богачи] делаются бедными и изнуряются голодом не только в будущем веке, но часто и здесь, ибо все зыбко в этом мире». Слова святителя явно указывают, что для Евлогии мираж богатства и прелестей века сего был еще заманчивым и притягивал душу ее.
Судя по письмам свт. Феолипта, не только этот прелестный мираж, представлял духовную опасность для молодой настоятельницы: у нее часто происходили стычки и ссоры с сестрами, в которых немалую роль играл властолюбивый и несдержанный характер Евлогии. Кроме того, горячий темперамент и буйная игра плотских страстей служили для нее, как и для многих, немалым препятствием на пути ко спасению. И не случайно в своем последнем кратком послании святитель особое внимание обращает на «отвратительность» (_ahd)ia – или то, что в душе вызывает тягостное и томительное ощущение), говоря так: «Пусть [никогда] не вводит тебя в заблуждение отвратительность плотских чувств. А отвратительностью я называю противоразумное наслаждение (τὴν παράλογην ἡδονήν), ибо то, что кажется наслаждением чувств, становится отвратительным во время [нашего] исхода [из жизни сей]. Ведь телесные ощущения, будучи преходящими, приносят утешение [лишь] до кончины (πρὸ του̑ τέλους); добродетели же, восхищающая душу к будущему, утешают [нас] и после кончины. И радость ту никто не отнимет у души (ср.: Ин.:16:22)». Старец, стоящий в конце своего жизненного пути, прекрасно знал истинную цену всех преходящих чувственных удовольствий, порождаемых маетой мудрования плоти. Поэтому он, предостерегая свою духовную дочь от этой маеты, во втором послании делает основной акцент на стяжании добродетелей воздержания и терпения. На сей счет он высказывается так: «Наслаждение и слава [земная] снимают с нас облачение славы Божией, а воздержание и терпение вновь ткут это облачение. Когда наслаждение иссушается воздержанием, а тщеславие уничтожается [стойким] перенесением несчастий, то душа возвращается к любви Божией и облекается миловидной красотой смиренномудрия». В этом же послании он дает и ряд конкретных советов Евлогии, среди которых можно отметить следующий: «Посещай, когда возможно, недугующих сестер и старайся сама услужить им. Присутствуй [у постели] умирающей сестры и смотри на агонию при исходе души: это способствует познанию тщеты настоящей жизни и презрению к ней, а также побуждает душу к аскетическим подвигам». Вообще следует констатировать, что в посланиях свт. Феолипта к Евлогии рассыпано множество жемчужин православного аскетического богословия, добытых им посредством тяжкого молитвенного труда и непрестанного пота аскезы[12]. Не случайно именно опытный характер христианского Богомыслия и истинной мудрости подчеркивается митрополитом во втором послании: «Слово [лишь] тогда обретает многую силу, когда оно подтверждается свидетельством делания. Ибо когда слово [учителя], как обладающего опытным ведением (τὴν ἐν πείρᾳ γνω̑σιν ἔχων), вливается в мысль [обучаемого], то оно побуждает и все внутреннее расположение души [этого обучаемого] к равному рвению в добродетели». Сам святитель, несомненно, обладал неистощимым богатством такого опытного ведения и, проживи он дольше, путь в Царство Небесное для Евлогии стал бы значительно доступнее под руководством столь мудрого старца. Однако, Промысл Божий распорядился иначе, и молодая настоятельница осталась на этом тернистом пути без духовного наставника. А о том, что он был ей насущно необходим, свидетельствует сохранившаяся ее переписка с одним неизвестным монахом[13].
Эта переписка содержит 22 письма, из которых 8 принадлежат Евлогии (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15), а остальные 14 – данному монаху (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16-22). Она состоялась в период между 1332 – 1338 годами (возможно, около 1335 г.), охватывая по продолжительности своей около одного года. Установить личность корреспондента Евлогии исследователям не удалось, хотя высказывалась гипотеза, что им являлся исихаст Игнатий, известный по переписке Варлаама Калабрийского[14]. Имеется и предположение, что вторым духовником Евлогии был Феоктист Студит – автор нескольких агиологических произведений, посвященных патриарху Афанасию I Константинопольскому, и стихов в честь свт. Григория Паламы[15]. Но данное предположение также есть не более чем очень и очень зыбкая гипотез. Наконец, даже на ранг таковой гипотезы не претендует очень странное предположение, что этим монахом был известный оппонент свт. Григория Паламы - Акиндин[16]. Исходя из переписки, об этом анониме мы можем сказать немногое. Прежде всего, он был человеком образованным, поскольку посылает Евлогии свою книгу, содержащую трактаты («слова») в защиту [эллинской?] словесности и направленные против тех [христиан], которые считали такую словесность ненужной («не благой»)[17]. Кроме того, данная книга содержала и поэтические сочинения, написанные ямбическими и гексаметрическими стихами. По словам самого автора, трактаты были им написаны тогда, когда он еще находился в миру (ἔτι ὤν κοσμικὸς), а поэзия создана им уже после пострига. Свои стихотворения он характеризует так: одни из них легко доступны для понимания, а другие обладают более сокровенным, то есть духовным, смыслом; последние суть плод «исихии», но «безмолвия» не самого автора, а молитвенного опыта, собранного им из чтения «отеческих трудов» (τω̑ν πατερικω̑ν ἐξειληγμένον πόνων; посл.12). Еще он отправляет своей корреспондентке некие сочинения («Слова»), посвященные патриарху Афанасию IКонстантинопольскому, отмечая их еще необработанный и черновой характер (посл.4). Таким образом, корреспондент Евлогии являлся иноком совсем не чуждым словесности и достаточно образованным. В то же время он был любителем «исихии» и неохотно покидал свою келлию (посл. 8 и 9). Жил он, вероятно, где-то на окраине Константинополя, а по возрасту вряд ли был намного старше Евлогии. При всем том, этот монах был человеком достаточно известным в столичных христианских кругах: он упоминает о своих друзьях, епископах и даже патриархе (вероятно, либо Исайе, либо Иоанне XIV Калеке), которые просят ему уделять время (посл.17).
Каким образом познакомилась Евлогия с этим монахом, остается неизвестным, но, возможно, она, услышав от кого-то из близких людей о нем, направила ему письмо, а тот ответил – и между ними завязалась переписка, начало которой утеряно. В сохранившемся первом послании Евлогии, являющемся ответом на письмо монаха, мы ничего конкретного не находим: здесь обретается только обычный для Византии жанр эпистолярной любезности. Несостоявшаяся императрица восхваляет «великую способность (силу) к любомудрию» своего корреспондента и одновременно жалуется на отсутствие у нее словесного образования (ἀμαθίαν εἰς τὴν ἐπιστημ́ην τη̑ς γραμματικη̑ς), скромно констатируя в то же время и собственную, пусть и малую, способность рассуждения (καὶ τὴν μικρὰν δύναμιν εἰς τὸ νοει̑ν), дарованную ей благодатью и человеколюбием Творца и Спасителя Иисуса Христа (посл.1). По формальной своей стороне переписка сводится к просьбам Евлогии посещать ее для духовных бесед и вежливыми, но упорными отказами монаха исполнить эти просьбы, поскольку ему требовалось в таком случае нарушать свое безмолвие и выходить из уединения в городскую суету. Наконец, он соглашается навещать Евлогию 6 раз в году. Однако за этой формальной стороной переписки можно уловить некоторые существенные моменты, характеризующие личность и духовный настрой как самой Евлогии, так и неизвестного инока, выбранного ею в качестве духовного наставника.
Первое, что бросается в глаза при чтении переписки, это – чувство глубокого одиночества и скорби, которое, видимо, стало одной из основных констант земного бытия Евлогии. Она пишет, что после кончины обоих отцов – одного, давшего ей рождение по плоти, и другого, возродившего ее посредством пострижения в монашество, жизнь ее стала мучительной (ὀδυνηπω̑ς ζω̑), поскольку она лишилась духовного и просвещенного (буквально «словесного») общения (ὁμιλίαν πνευματικὴν ἅμα καὶ λογικὴν). Именно такое одиночество и заставило ее искать бесед с избранным ею монахом (посл. 7). Тот же, отказываясь от подобных личных бесед, которые, по его мнению, могут быть заменены письмами, указывает на боголюбезное устроение души царственной настоятельницы, любящей больше «исихию», чем общение (посл. 8: οὐχ ἡ̑ττον εἰ̑ναι φιλήσυχον ἤ φιλόμιλον τὴ φιλόθεον γνώμην). Действительно, из собственных слов Евлогии мы узнаем, что она не покидает стен своего монастыря. Указываются и причины: при отсутствии строгого затворничества тесная связь с царствующим домом заставила бы ее присутствовать на царских свадьбах, похоронах и прочих торжествах. А это потребовало бы наличие многочисленной челяди, роскошных выездов и прочих ненужных затрат. Подобные издержки Евлогия считает ненужными, поскольку материальные средства будут служить не для спасения сестер, вверенных ей Богом (посл. 15). А судя по всему, эти средства были еще значительными (посл. 7) и в личном распоряжении игуменьи находились большие суммы. И весьма показательно, что она не желала тратить их на суетные и мирские вещи – школа свт. Феолипта дала ей серьезную аскетическую выучку. Но избранному ею в духовники монаху она готова была оказать всяческую помощь (посл. 7). Помимо чисто материальных услуг (какие-то деньги, необходимые вещи и пр.), в эту помощь входили и книги, дорогие и ценные в Византии. Корреспондент Евлогии пишет о великом множестве («куче» - σωρὸν) книг, собранных Никифором Хумном и ею лично, как божественных, так и светского содержания (ἑλληνικω̑ν τε καί θείων), прямо говоря о своей потребности в них, и просит их прислать (посл. 10).
Вообще, из переписки создается впечатление, что между монахом и Евлогией установилась определенная душевная связь, в которой значительную роль играла общность интеллектуальных интересов. Однако, читающего переписку не покидает ощущение, что корреспондент Евлогии постоянно чувствовал ее высокое социальное положение и ту грань, которая отделяла его – человека, скорее всего, незнатного происхождения – от вельможной игуменьи. Хотя она осыпает его похвалами («о, чудеснейший человек Божий» и т.д.), высоко поставляя его литературный талант и глубину мысли (посл. 13), но «шила в мешке утаить» было трудно – властный характер и привычка повелевать у Евлогии проскальзывают постоянно. Уже один тот факт, что она, несмотря на упорное сопротивление монаха, настояла на том, чтобы он посещал ее, говорит о многом. И когда он, призванный стать духовником Евлогии, обращается к ней как к опытному знатоку «исихии» и монашеской жизни (πρὸς ἥσθχίας ἐπιστήμονα καὶ του̑ μοναδιχου̑ βιου̑; посл. 8), это звучит явной дисгармонией. Также его высказывание, что из уст женщины исходит глас, подобающий мудрому мужу, и что этот глас есть естественное порождение «самомудрой (αὐτόσφου) души» (посл. 2), вряд ли можно отнести только на счет византийского «политеса». Сама Евлогия порой осознавала опасность того главного «дикого зверя», который терзал ее изнутри, наряду с прочими «зверями». Она говорит о некоем свойстве (или «силе» - ἡ ἰσχὺς) нашего падшего ума[18], который должен осознавать подчинение (ὑποταγήν), держащее его в узде; если же эта узда ослабевает и ум чувствует себя свободным, то тут же делается добычей страстей. Она сама познала это на опыте, ибо когда ее ум освободился от узды духовного подчинения (του̑ ζθγου̑ τη̑ς νοερα̑ς ὑποταγη̑ς) архиерею (речь идет о свт. Феолипте), то он сразу же попал в плен греховных помыслов. Но теперь, встретив избранного ею монаха, она надеется, что вновь обретет узду такого подчинения (посл. 15). Однако, освободиться от рабства страстей, как это известно всем из собственного духовного опыта, значительно труднее, чем стать их добычей, поскольку они крепко держат в плену «свободный ум»… Для Евлогии это было трудно еще и потому, что покойный Филадельфийский святитель, по своей духовной мощи намного превосходил нового духовника игуменьи. Сама она, судя по некоторым признакам, также успела «заматереть» в своей призрачной свободе от всякого духовного окормления. Накинуть на ее ум новую узду, дарующую истинную свободу, было уже нелегко.
Впрочем, следует отдать должное неизвестному нам монаху: он приложил все силы, чтобы помочь освободиться настоятельнице от ее «диких зверей». Так, в одном письме (посл. 18) речь идет о каком-то конфликте Евлогии с неизвестными монахами; дело было вынесено на суд патриарха, но здесь вельможная настоятельница проявила, вероятно, строптивость, ибо духовник увещевает ее быть смиренной, особенно в отношении к патриарху – «отцу всех христиан». Вообще, он советует ей не быть мелочной [в спорах о незначительных] вещах (οὐκ δει̑ν ἀκριβολογει̑σθαι περὶ τὰ πράγματα), поскольку такая мелочность лишает нас возможности властвовать над собой. Также он советует обращать внимание в первую очередь на яростное начало своей души (του̑ θυμικου̑ τη̑ς ψυχη̑ς), ибо только укрепив его и соделав соответствующим нашему Богоданному естеству можно воспитывать других (посл. 19). Увещевает монах Евлогию избавиться и от страха смерти (посл. 22), возложив все упование на Бога и «возлюбив Его всем сердцем своим» (посл. 21). Таким образом, он предстает перед нами, как человек духовно опытный, и личная преданность «исихии» нового духовника Евлогии не вызывает никаких сомнений. В одном из писем (посл. 14) он высказывает ее в классических формулировках: «Сидя в келлии своей, я собираю самого себя (συναγαγὼν ἑμαιλὸν) пред одним только Богом, видящим и ведающим все»; говорится и о тщательном рассмотрении должного для него образа жизни, который состоит в удалении от всего чувственного и в покое уединения. О том, что для безымянного монаха это была не только чисто внешняя «исихия», то есть просто затворничество и удаление от мира, свидетельствует его совет Евлогии также пребывать в келлии и стяжать мир в душе со страхом [Божиим] и любовью к Святой Троице, постоянно освящать свою душу и озарять ум чистой мыслью о святом имени Господа, которое очищает тех, которые думают об этом имени и соблюдают заповеди Божии, насколько возможно им (посл. 16). Здесь явный намек на упражнение в постоянной молитве Иисусовой, опыт которого у духовника Евлогии, несомненно, имелся. Таким образом, его духовный настрой, насколько можно судить по спорадическим заметкам в переписке, принципиально ничем не отличался от аскетического богословия свт. Феолипта и остальных поздневизантийских исихастов.
К сожалению, мы не знаем, как развивались дальше отношения этого духовника и Евлогии. Абсолютное молчание источников заставляет предположить, что их пути разошлись. Как уже указывалось, в позднейшей истории византийской Церкви имя Евлогии тесно увязывается с врагами свт. Григория Паламы[19]. Он и его сторонники сравнивают ее с библейской Иезавелью. Сам святитель говорит, что Евлогия «из честолюбия стремится быть учителем мужчин в божественных догматах», отмечая ее преклонение перед «внешней», то есть языческой, мудростью; она, по его словам, «старается возбудить войну в святой Церкви против себя самой, древних святых, друг против друга и каждого против самого себя». Она на несколько лет дает прибежище в своем монастыре Акиндину, называющего ее «женщиной по природе, но не женщиной по нраву», и оказывает мощную финансовую поддержку всем еретичествующим сторонникам его. И эволюция этой яркой и одаренной личности от духовной ученицы свт. Феолипта, одного из наставников свт. Григория Паламы, к предательнице дела Православия представляется во много загадкой. Конечно, такого рода эволюция – вещь, к сожалению, достаточно обычная. Ведь, как хорошо известно, даже один из Апостолов Самого Господа стал предателем. А в дальнейшей истории Церкви мы постоянно сталкиваемся с различного рода «Иудами» и «Иудушками»[20]. Однако, конкретная фигура Евлогии заслуживает, тем не менее, внимания.
Думается, что во многом указанную загадку можно объяснить из известного евангельского повествования о встрече Господа с богатым юношей (Мф.19:16-21; Мк.10:17-27; Лк.18:18-27). В истории церковной письменности это повествование изъяснялось постоянно, хотя и понималось по-разному. В Церкви, начиная с истоков ее бытия, наблюдается отрицательное отношение к богатству, а, соответственно, и сильное тяготение к буквальному пониманию этого повествования. Достаточно вспомнить первохристианскую общину, когда все верующие «были вместе и имели все общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого» (Деян.2:44-45). Такой пафос нестяжания ярко определил и все бытие монашества. Не случаен тот факт, что буквально воспринял указанное евангельское повествование, согласно свт. Афанасию Великому, отец монашества - преп. Антоний, продавший все доставшееся ему наследство от родителей[21]. Примеру преп. Антония затем последовали сотни и тысячи богатых и знатных христиан, решивших отречься от мира и принять на себя ангельский лик монашества. Естественно, в Церкви всегда существовали и богатые. Обращаясь именно к таковым христианам, свт. Василий Великий предостерегает их: «Чем больше у тебя богатства, тем меньше любви»[22]. Следует отметить, что в церковной традиции имеется и немало примеров духовного понимания повествования о богатом юноше. Так, Климент Александрийский полагал, что его не следует толковать в узко буквальном смысле, поскольку здесь речь идет об изгнании из души ложных представлений (τὰ δόγματα) о деньгах и имуществе, вожделение их и «сочувствие» к ним. Для александрийского учителя материальные блага являются как бы «орудием», которым можно пользоваться и искусно, и дурно. Главная задача их – служить человеку, а не господствовать над ним. Евангельское повествование, поэтому, соотносится в первую очередь со страстями души, а не с богатством, как таковым. К подобному небуквальному изъяснению названного евангельского повествования склонялся и блаж. Августин[23]. Важно подчеркнуть, что у отцов Церкви внимание преимущественно акцентировалось на нравственном аспекте богатства. В частности, свт. Иоанн Златоуст констатирует великую власть богатства и влияние его на духовное преуспеяние: «Хотя бы мы в остальных отношениях и были добродетельны, богатство истребляет все эти добродетели»[24]. Подобное нравственное видение материального благосостояния и позволяет Златоустому отцу понимать истинный смысл слов Господа: «трудно богатому войти в Царство Божие». Вследствие чего, как говорит св. Иоанн, «Христос этими словами не богатство порицает, но тех, которые пристрастились к нему»[25]. Поэтому главная борьба за уничтожения зла, связанного с богатством, разворачивается в душе человека, который должен преодолеть в себе мучительную страсть сребролюбия и любостяжания. Подобная точка зрения Златоустого отца недалека в принципе от точки зрения Климента Александрийского.
Исходя из этого, можно сказать, что в рассматриваемом евангельском повествовании вряд ли можно искать осуждение богатства и богатых как таковых. Господь говорит, что богатому трудно (δυσκόλως), а не невозможно войти в Царство Небесное. Действительно, богатство создает мощные препятствия на пути достижения христианского совершенства не только тем, что будит в нас страсть к любостяжанию, но и намертво приковывает человека к земному бытию такими нитями лилипутов, как многочисленные привычки к различным аспектам комфорта; оно будит и страсть тщеславия и подспудного осознания собственного превосходства над людьми менее богатыми, а также и зависть к более богатым; наконец, поскольку богатство неразрывно связано с властью, то страсть властолюбия пускает глубокие корни в душе богатых[26]. Такой огромный шлейф страстей и греховных помыслов становится многопудовыми гирями, прикованными к ногам богача, вставшего на путь спасения. И подобного человека можно только пожалеть, что и сделал Господь…
Пример Евлогии в этом отношении показателен. Горе раннего вдовства, резкое ощущение бренности всего земного и обаяние благодатной личности Филадельфийского святителя изменили всю ее жизнь, заставив избрать тесный и узкий путь подвижничества. Искренне и с энтузиазмом несостоявшаяся царица державы ромеев начала шествовать по нему. Однако сильнейшая инерция прошлой жизни, с которой она не сумела до конца расстаться, постепенно гасила этот энтузиазм: потратив значительные суммы на постройку и устроение монастыря, Евлогия все еще оставалась богатой; родственные и социальные связи еще тесно опутывали ее; богатая душевная жизнь, служащая часто почвой для произрастания семян духовной жизни, понемногу стала все более и более преизобиловать, потоками чрезмерной эмоциональности заглушая теперь эти семена; властная натура, подпитываемая неразумной лестью, завистью и интригами окружающих, все чаще рвала узду смирения. Наконец, Евлогия была одной из самых умнейших женщин своей эпохи. А интеллектуальное богатство является, наверное, одной из самых опасных форм богатства, ибо оно более всего способствует возрастанию в нас «архигреха» - гордыни, в которой «выступает особенно заметно и неприкосновенно чисто религиозное противление воли Богу, на первой же, начальной степени она касается собственно ближайшим образом только людей»[27]. Эти факторы, на наш взгляд, и определили печальную эволюцию царственной игуменьи. Как сложились ее последние годы жизни и как решена ее посмертная участь – это ведает один только Бог, но церковной анафеме она, вместе с Варлаамом, Акиндином и прочими врагами Православия, подпадает. И ее пример еще раз убедительно показывает, сколь трудно, сколь мучительно трудно, богатому войти в Царство Небесное, доступ в которое невозможен без соблюдения догматической акривии и духовных законов благочестия.