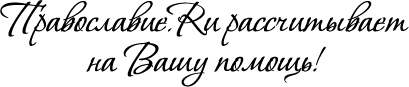Из книги архиепископа Иоанна (Шаховского) "Установление единства", изданной в серии "Духовное наследие русского зарубежья", выпущенной Сретенским монастырем в
 |
| Театральная площадь начала XX века. Вид из гостиницы Метрополь |
Цель этих записок — установление единства. Благодарю меня Создавшего и Терпящего и людей, чрез которых я вошел в мир, помощью которых жил и все более ощущал свою жизнь как дар и милость.
Земное существование свое я начал в Москве
Мои первые воспоминания отрывочны и, по-видимому, восходят к 1906 году. Помню себя глядящим из окна одного из верхних этажей московской (как мне сказали) гостиницы «Метрополь». Какие-то фигурки бегают по площади. Жизнь моя вдвигалась в революционный век. Двигающиеся по Театральной площади маленькие люди — начало моего видения истории — осталось ее символом. Чередования лет не сохранились четко в моей памяти, в ней остался только ряд людей и событий, а многое изгладилось или стало неясным, очевидно, несущественным, для моего сознания.
Свое детство я мог бы назвать райским. Конечно, и у меня были свои краткие детские горести и слезы. Но детство мое осталось в каком-то райском сиянии. Ни одной горчинки от прошлой жизни у меня нет. А особенно нет ее в памяти о моем детстве. Все было чудесным даром.
Мои первые воспоминания о Москве — это Сивцев Вражек на Арбате, где родилась в 1906 году моя младшая сестра Зинаида. В эти первые отчетливые детские картинки 1907–1908 годов входят мои прогулки с няней Татьяной, и игры на песке Пречистенского бульвара, и желтенькая медалька — такие раздавали в день открытия на бульваре памятника Гоголю. И более всего стоит пред глазами величественный храм Христа Спасителя с его алтарем, как внутренним храмом. Помню я и живые картины в «Охотничьем клубе» Москвы, где я увидел на сцене тетю Полю (Поликсению Леонидовну Нарышкину, старшую сестру матери) в виде красивой баядерки, недвижно сидевшей в лодке с каким-то красавцем-«турком», на фоне Босфора. Эти живые картины, мертвенно застывшие (на несколько минут), тогда часто ставили на любительских сценах. Словно то, что считали люди лучшим в жизни, должно было застыть («Остановись, мгновенье, ты прекрасно»). Но остановить жизнь было трудно, так как это была жизнь. Мое детство — это, прежде всего, Матово, средняя черноземная полоса России, милая русская тульская земля, Веневский уезд, Холтобинская волость. Там постоянно жил мой отец, который так любил землю, что оставался в деревне даже тогда, когда мы, дети, с матерью, проводили зиму в Москве, в Петербурге или за границей.
Одну или две зимы мы провели в Матове. Я тогда учился дома и свои экзамены в первый класс сдал в Туле, в Дворянской гимназии на Киевской улице. По этой улице тогда ходила конка, причем в гору по этой широкой улице тащила конку одна лошаденка, а с горы ее лихо мчала тройка. Это было уже некое видение русских черт — ненужной лихости и терпеливого страдальчества (может быть, и иррационализма, коим полна русская история), но мы, дети, смеялись над этим.
Когда мне было пять или шесть лет, меня посадили на маленькую караковую лошадку. Звали ее Келячок. На этом смирном коньке меня прокатывали. Позже я стал ездить верхом на разных лошадях и годам к двенадцати сделался любителем верховой езды, не как «спорта», а как самой жизни, с этой ездой сопряженной. Лошадь стала моей первой серьезной собственностью и дверью в мир, в природу, в свободу. Я скакал повсюду, и лошадь была живой частью той независимости, которую мне предоставляли родители. Мать развивала во мне смелость и предприимчивость, заставляла меня лазить по высоким деревьям и сама показывала этому пример. С балкона второго этажа нашего матовского дома я, ребенком, должен был слезать по веревочной лестнице, преодолевая «чувство бездны» за своей спиной. Все это было воспитанием инициативы, одолением малодушия. Внешнее в ребенке становится выражением внутреннего состояния и характером взрослого. К лошадям у меня до сих пор осталось нежное чувство. Близкое к этому чувство осталось и к русской земле.
Отец влиял на меня всем стилем своей спокойной жизни, благодушной трудолюбивостью и серьезным, честным отношением к вещам. Это усваивалось без поучений. Мать учила своей живостью, допускавшей лишь в меру снисхождение к слабостям. У меня осталось в памяти на всю жизнь поучение ее, как и отца, не лгать, даже в пустяках, и иметь мужество сознаваться в недолжном поступке. С ранних лет слово правда мне преподносилось как ценность сама по себе, независимая ни от какой инструментальной ее нужности и ценности. С детства правда была для меня чем-то прекрасным и привлекательным... Жизнь в нашей семье была бодро-веселая, без отвлеченных нравоучений. Свобода человеческая входила в семью сама собой в открывающейся все шире жизни.
Только раз мать сильно дернула меня за ухо. Это было летом, я сидел в столовой (мне было лет двенадцать) и с грязно-смешливым выражением рассматривал иллюстрации родовой жизни лошади. Этот гневный ее жест я помню до сих пор с благодарностью. Это был гнев ее любви, отсутствием которого так часто грешат пастыри и родители. Абстрактная моралистическая дидактика не всегда переходит в конкретное вразумление, в справедливый и правдивый гнев любви.
Я сказал о чувстве первой серьезной собственности, возникшей во мне от лошади. Это чувство собственности сопрягалось и с чувством ответственности. Вероятно, здесь выход из собственнического эгоизма. И только этот эгоизм собственничества, а не собственность, есть зло истории, что так недоучитывают некоторые общественные теории.
Чувство собственности растет с раннего детства, оно есть проекция и признак зреющей личности. Собственность прекрасна тем, что ее вообще нет и она дается только на время. Собственность хороша именно тем, что ее можно отдать, подарить ее, снять с себя. Человеку нужно что-то иметь, чтобы иметь право и радость этим поделиться, это подарить. Чувство собственности словно создано, чтобы можно было человеку исполнить волю Божию, завершение которой давать другому не только рубашку (если попросит), но и верхнюю одежду. Такое именно завершение жизни слышится в словах: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 33).
С детства чувство собственности нарастает и становится в человеке стимулом разной активности, рождающейся в его свободе. Сама по себе она не добро и не зло, но лишь модус личности. Чувству собственности надо, конечно, учиться, как вообще всему. Учиться на ней благородству, а не низменности. Меня удивляет, что в университетах и средних школах (тем более семинариях) не учат искусству собственности. Это мог бы быть нужный и интересный предмет, соединяющий в себе философию, психологию, антропологию и духоведение.
В зиму 1910—1911 года я получил первое ружье, это была берданка 28-го калибра, стрелявшая дробинкой. И я стал убивать воробьев, которые, нахохлившись, сидели на голых ветвях зимнего акатника нашей матовской усадьбы. Прицелившись, с замиранием сердца и страстью я стрелял в эту, не ждавшую от меня ничего плохого пичугу, и она сваливалась в снег. Бессмысленное, дикое это занятие стало началом моей охотничьей страсти. С возрастом я получал иные ружья, и с «зауэровской» бескурковой двустволкой и собакой хаживал по тульским полям, болотам и лесам. Самое же сладостное было для меня стоять в совершенной тишине белого зимнего леса, слышать дальнее завывание гончих и вдруг увидеть (вдруг — в этом все дело), как из леса, невдалеке от тебя, настороженно ковыляет русак.
Охотился я и на уток в болотах Епифанского уезда, у истока Дона, где была Куликовская битва, в двадцати верстах от другого нашего имения, Прони, где мы, дети, одно время жили после совершившегося в 1914 году развода моих родителей и бракосочетания, летом 1914 года, моей матери с помещиком Епифанского уезда Иваном Александровичем Бернардом. В этой Проне летом 1916 года Иван Александрович был таинственно убит, о чем скажу далее.
Проня была от Матова в десяти верстах. Станция Епифань, Сызранско-Вяземской железной дороги, ближайшая к обоим имениям, отстояла в восемнадцати верстах от Матова и в восьми от Прони. В Веневе была станция Рязанско-Уральской железной дороги, но до Венева от Матова было тридцать верст, и мы редко ездили этим путем. Помню только два путешествия в Венев. Одно зимой, в возке, тройкой цугом, а другое весной, в распутицу, в тяжелой, на железных шинах, карете, запряженной шестериком (кучер правил четверкой, а парой лошадей впереди — сидевший на одной из них форейтор).
Я сказал, что охота стала моей страстью. Сейчас я вспоминаю об этом с грустью, но тогда я ничего не видел в этом, кроме большого для себя удовольствия. Единственным оправданием охоты было то, что она физически укрепила меня и, может быть, помогла развитию во мне качеств, которые мне в жизни оказались очень нужны. В раннем детстве этих качеств активности у меня было мало, я был скорее созерцательной натурой. И, очевидно, мне надо было к своей душе добавить охотничью предприимчивость и волю. Пастырю тоже надо иметь какие-то охотничьи черты, вознесенные, конечно, в этаж высочайший.
В Бога я верил всегда. Но религиозное сознание мое было младенческим и таким оставалось до университетских лет. Я никогда не проходил в жизни через «кризис веры», колебания или сомнения. Я кратко молился Богу утром и перед сном и, может быть, не вполне понимая глубокого смысла всего происходящего в православном храме, участвовал в церковной молитве, когда меня приводили, или — потом я сам приходил в храм.
Впрочем, не надо преувеличивать сознательности в вере. И вообще в мире... В усадьбе Прони, в большом ее парке, стояла церковь, недалеко от дома. Кроме Таинства венчания в ней моей матери с Иваном Александровичем в 1914 году, когда мне было 12 лет, у меня совершенно не осталось памяти о церковных в ней службах. Но я хорошо помню кладбище около этой церкви, заросшее густой травой, со старыми покосившимися крестами, типично русское кладбище. Помню колокольню, и как я залезал на нее с дьяконским сыном Леней, и как пахло там голубями. Помню и пожилого батюшку этого храма, но не служащим в храме, а сидящим с удочкой в «Дубках», на высоком лесном берегу озера, среди нашего парка.
Хорошо помню я лишь богослужения в храме слободы Новики большого села Гремячего, в пяти верстах от Матова. При Екатерине это был город (и там сохранились старинные названия слобод: Стрельцы, Пушкари, Казаки). Новики — была новая слобода, и у ее храма в семейном склепе, в часовне, под зеленой крышей, пахло ссохшимся деревом и мертвыми цветами. Здесь был погребен бывший хозяин Матова князь Димитрий Федорович Шаховской, в честь которого я был назван Димитрием. Рядом была погребена его незамужняя сестра Варвара Федоровна, в честь которой была названа моя старшая сестра. Эта линия Шаховских была в родстве с матерью моей матери Поликсеной Егоровной Книна, урожденной Чириковой. По этой линии моя мать была в дальнем родстве с моим отцом. Живя молодой девушкой в имении своего grand-oncle князя Димитрия Федоровича, мать и познакомилась с моим отцом. Он был старше ее на 17 лет.
Живя в Матове, мы по воскресеньям и праздникам (особенно ярко помню весенние дни Троицы, солнце, храм, украшенный березками) отправлялись утром к обедне в Гремячее. Подавалась пролетка тройкой, а иногда и желтый шарабан, английский кэб, запряженный парой в дышло. Кучера были одеты в бархатные полукафтаны и яркие оранжевые или малиновые рубахи, рукавами выступавшие из кафтана, а на головах их были круглые шапочки с павлиньими перышками. Войдя в храм, мы всей семьей становились на левом клиросе. Деревенский хор парней и девок пел на другом клиросе бойко и голосисто. Церковь наполнялась крестьянами, разодетыми в праздничное; парни стояли в чистых высоких сапогах и блестящих галошах (галоши считались украшением, их во время дождя снимали).
В храме Гремячего служил приятный, тихий, молодой и уже вдовый священник отец Александр Маковский, имевший кучу детей. Как сейчас вижу его лицо, похожее на лик Христов. После службы мы заходили к нему, в его домик около храма, и в комнате, уставленной фикусами, пили чай. Нелегка была жизнь в России сельского многодетного, молодого, вдового священника. Хорошо, если в семье была подросшая дочь, которая могла заменить мать для малых детей. Отец Александр иногда приезжал с псаломщиком в Матово и служил у нас на дому всенощную под праздник... Таковы были мои первые соприкосновения с Церковью. С пастырями я встречался в России мало. Сословие «духовное» было почетным, но не близким ни высшему кругу русского общества, ни интеллигенции, ни широкому кругу крестьянства. Оно было наиболее близко к среднему купеческому кругу и служилым людям. Духовенство не входило и в жизнь моей семьи. Но, кроме отца Александра Маковского села Гремячего и моего законоучителя в лицее (лицо которого совсем стерлось в моей памяти), я помню хорошо свою единственную в России встречу с архиереем. Это был митрополит Флавиан Киевский, один из замечательных русских архиереев начала нашего века. Не знаю, по какому поводу моя мать посетила его в Петербурге и взяла меня с собой, мне было лет семь или восемь. Митрополит принял нас в обширных покоях своего большого Киевского подворья на Васильевском острове, у Невы. В черного бархата рясе, совсем белый, с большой бородой и добрейшими глазами он остался живым образом в моей жизни. Я, конечно, запомнил и ту шоколадку, которой он угостил меня, желая, очевидно, меня утешить, может быть, сочувствием моему будущему. Его благословение и доброта легли в меня на всю жизнь, соединив меня чем-то личным с пастырством Русской Церкви.
В Петрограде, в 1915 году, в первый мой лицейский год, моего товарища Адю Ладыженского и меня наш лицейский учитель пения (регент хора Мариинского театра Сафонов) избрал для пения в церковном лицейском хоре. Мы стали разучивать песнопения литургии и панихиды. Но о самих церковных службах в лицее у меня мало осталось воспоминаний. Таков был уровень моего отношения к Церкви.
Уроки закона Божьего прошли почти бесследно для моего сознания. В подсознании, может быть, и остался от них какой-либо след, но сознания религиозного у меня еще не было. Было лишь детское чувство веры. И помню, как благоговейно я остановился однажды в Матове на пороге кабинета моего отца, а потом тихо ушел, когда, ворвавшись туда одним летним днем, я вдруг увидел в тишине комнаты моего отца, молящегося на коленях. Вдруг я ощутил тайну молитвы.
Помню, радостно было мне всегда, идя ко сну, прощаясь с отцом, принимать его благословение и целовать его, перекрестившую меня руку. Таков был обычай в семье. Мне было так же радостно (еще в более раннем детстве) молиться на коленях в кровати перед сном, когда рядом молилась научившая меня молиться мать. Слова этой моей молитвы были такие: «Господи, спаси и помилуй папу, маму, дедушку, бабушку, Варю, Нату, Зину1 и меня грешного Митю». Окончивши эту свою детскую молитву, я крестился, целовал небольшую икону Спасителя в серебряном окладе, висевшую у моего изголовья, и сладко забирался под одеяло. Мать крестила и целовала меня.
Помню, как лечила мать «ячмень» на моем глазу. Сняв свое обручальное кольцо, она три раза благоговейно проводила кольцом по моему воспаленному веку и говорила: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». И «ячмень» проходил. Во всех иных случаях мать строго придерживалась классической домашней медицины того времени: больное горло или средняя часть тела покрывались толстым холодным или горячим компрессом, грудь натиралась приятно пахнущим скипидаром, давались всякие чаи. Весной собирались березовые почки, настаивали их на алкоголе. Это была какая-то примочка.
Особое священнодействие полагалось в дни рождения кого-либо из семьи или его именин. Когда наступали мои дни — 23 августа или 21 сентября (день памяти святителя Димитрия Ростовского), мы обычно были еще в деревне. В эти дни я чувствовал себя особым человеком и — «на седьмом небе». Открывая глаза утром, я уже знал, что около постели будут лежать тайно положенные туда ночью подарки. Сердце мое замирало, когда сквозь лучи, пробивавшиеся из щелей деревянных ставень, я начинал различать эти силуэты лежащих около меня предметов, предвкушая радость обладания и наслаждения ими.
Когда в этот день я сходил в столовую, на первом этаже, я видел (знал, конечно, что увижу) другую замечательную картину: все стулья или кресла вокруг стола были обычные, но одно (и это было кресло) стояло на моем месте, разукрашенное цветами. Я садился торжественно в это кресло, а все садились на свои обычные места. Никто еще не касался яств. Все смотрели на огромный крендель, благоухающий всеми запахами, тепловатый, покрытый миндалем и сахарной пудрой. Крендель должен был участвовать в теургическом действии. Теургом была мать. Она подходила ко мне, сидящему в цветах, брала со стола этот пышный крендель и, став позади кресла, на котором я восседал, опускала крендель на мою голову и торжественно, чуть изменившимся голосом, говорила: «Во здравие раба Божьего Димитрия». И — крендель разламывался пополам о мою голову. Но голова от этого совсем не страдала. Наоборот, она веселилась вместе с сердцем и витала где-то высоко. Священнодейственный момент этим оканчивался. Поздравляя виновника торжества, все начинали пить кофе или чай с этим душистым кренделем.
Несомненно, в этом действии было что-то связанное с «высшим миром». И ребенок чувствовал это возвышенное и понимал, что он не только Митя, но и Димитрий, и что главный его титул — раб Божий. Именно этот титул оставался в душе самым высоким титулом человека.
Продолжение следует...
| ||||||