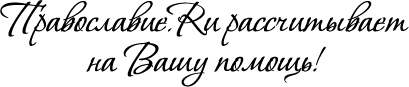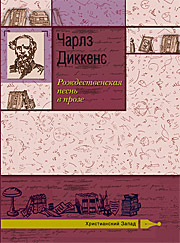 |
| Чарлз Диккенс. Рождественская песнь в прозе / Пер. с англ. Т. Озерской; Предисл., коммент. В.М. Толмачёва. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 176 с. — (Христианский Запад) |
Приводим предисловие из книги.
Чарлз Диккенс и его «Рождественская песнь в прозе»
Чарлз Джон Хаффем Диккенс родился 7 февраля 1812 г. в Лэндпорте, предместье Портсмута (на острове Портси, графство Хэмпшир), что символично: близость воды, моря, доков — реальность многих диккенсовских произведений.
Его отец Джон Диккенс (1786–1851) был связан с Лондоном (родители Джона служили у лорда Крю стюардом и экономкой), а с 1807 г. трудился клерком в расчетной и страховой канцелярии Морского министерства. Мать — Элизабет Бэрроу (1789–1863), вышедшая замуж за Диккенса в 1809 г. и родившая ему восьмерых детей (Чарлз стал вторым из них), происходила из семьи лондонского мастера музыкальных инструментов и имела, в отличие от своего супруга, чей единственный брат умер бездетным, большую родню.
Чарлз после появления на свет был крещен в лэндпортском «морском» соборе Святой Марии на Фрэттон-роуд, сохранившемся до сих пор и имеющем в своих церковных книгах запись о рождении и крещении будущего писателя.
Чета Диккенсов была небогатой, хотя и не совсем необеспеченной. Росту ее благосостояния мешало отсутствие воли у Джона, человека, с одной стороны, приятного в общении, наделенного чувством юмора, красноречивого, способного, как выяснилось позднее, освоить при необходимости новый род занятий, но, с другой, не очень внимательного к детям, сумбурного, часто бравшего значительные суммы денег взаймы и попадавшего из-за этого в затруднительное положение, выход из которого приходилось искать матери.
В 1814 г. Джон Диккенс был переведен в Лондон, а затем получил назначение в Чэтем (графство Кент), где на реке Медуэй располагались доки королевского флота. С жизнью в этом отчасти полусельском городке у Чарлза остались связаны самые приятные воспоминания — об играх на лугу (через него позже пройдет железная дорога Чэтем — Лондон), о прогулках, посещении с сестрой частной школы одной старой дамы (до 1821 г.), детском театре, а также о собственной декламации куплетов и песенок, когда он, ребенок хрупкий, сострадательный и, по-видимому, испытывавший недостаток родительской любви, становился центром семейного внимания. Немало важной осталась и детская память об имении Гэдз-хилл плейс (расположенном недалеко от близкого к Чэтему Рочестера), на которое отец мечтательно указал ему как на образец недостижимого социального благополучия. Через 36 лет уже всемирно известный писатель приобре тет Гэдз-хилл, чтобы провести в нем заключительную часть своей жизни. В Чэтеме же в 1821 г. Чарлз имеет возможность некоторое время ходить в «настоящую» школу и в девятилетнем возрасте благодаря дружеской опеке над ним учителя У.Джайлза, сына баптистского священника и выпускника Оксфорда, читает романы Д.Дефо («Робинзон Крузо»), Г.Филдинга («История Тома Джон са, найденыша»), Т.Смоллетта («Приключения Родрика Рэндома», «Приключения Пергрина Пикля», «Путешествие Хамфри Клинкера»), О.Голдсмита («Викарий из Уэксфилда»), «Сказки тысячи и одной ночи» — книги, найденные им на чердаке баптистского молельного дома. Однако вскоре идиллия детства отступила в сторону в связи со смертью от ветряной оспы младшей сестры, малютки Хэрриет (от этой болезни пострадает героиня романа «Холодный дом» Эстер Саммерсон); ранее, в 1814-м, в шестимесячном возрасте скончался Элфрид, младший брат Чарлза. К этому времени Джон Диккенс в связи с реорганизацией министерства снова был переведен в Лондон, куда к семье, в которую входили теперь пятеро детей (а также слуга), осенью 1822-го присоединился Чарлз, задержавшийся в Чэтеме у Джайлза. В Лондоне, где Диккенсы поселились в КэмденТауне, на только-только застраивавшейся бедной окраине (в подобном районе проживает семья Боба Крэтчита из «Рождественской песни в прозе»), им никто не занимался.
Не имея возможности ходить в школу, он слонялся по улицам, ошеломленный большим городом. Но, что хуже, его отец, уже несколько раз чудом выкручивавшийся в Чэтеме и Лондоне из обременительных денежных обязательств, угодил-таки 20 февраля 1824 г. в долговую тюрьму Маршалси, не уплатив сорок фунтов булочнику. В преддверии ареста, за которым последовала продажа имущества с молотка (при этом Диккенсу продолжали выплачивать жалованье в министерстве), родители отправили Чарлза на фабрику ваксы, принадлежащую родственнику матери. Так он стал взрослым — в течение 10 часов за шесть-семь шиллингов в неделю ежедневно упаковывал коробочки с ваксой (проработав на фабрике от шести месяцев до одного года, то есть дольше, чем Джон Диккенс находился в тюрьме, которую покинул в мае 1824 г.), ради этого пересекая полгорода, чтобы достичь Стрэнда (и запоминая улицы, площади, вывески гостиниц, трактиров, кофеен), а по воскресеньям посещал отца и мать. Травма для мечтательного, стеснительного мальчика, любившего пантомиму и театр, гордившегося своим природным талантом уморительно передразнивать окружающих, судя по всему, оказалась столь сильной, что о «тайне» своего пребывания в «черном подземелье» он позднее не рассказывал ни жене, ни детям, но в то же время наградил фамилией своего напарника по работе, Боба Феджина, одного из главных злодеев в романе «Оливер Твист».
И все же Джон Диккенс в конце концов против воли жены (писатель не мог простить этого матери — отсюда особые оттенки образа миссис Никлби в романе «Николас Никлби») все-таки забрал Чарлза с фабрики (черты отца в диккенсовской прозе всегда предпочтительнее — см. с этой точки зрения на семью мистера Микобера в романе «Дейвид Копперфилд») и вновь устроил его в школу, Уэллингтон-хаус экедеми.
Выйдя же на пенсию и по-прежнему не оставив попыток всеми правдами и неправдами занимать деньги на что-то не вполне понятное для посторонних (в этом его сходство с дедушкой маленькой Нелл из романа «Лавка древностей»), он подал сыну пример, чем заниматься, обучившись стенографии, выполняя журналистские поручения.
За время, проведенное в школе (1825–1827) — в какой-то момент оно неожиданно закончилось, — Диккенс запомнился прилежанием, аккуратным почерком и, что любопытно, хорошими манерами: он старался вести себя как сын «джентльмена». Из школы, зная теперь помимо английской грамматики и Филдинга азы латыни и игры на скрипке, он попал в привычную для себя стихию перемещенного лица.
И не только из-за постоянных переездов семьи с квартиры на квартиру, но и потому, что с мая 1827 г. стал служить, опять-таки благодаря родственным связям матери, младшим писцом у стряпчего Э.Блекмора.
Однако роль мальчика на побегушках (их так много в диккенсовской прозе!), в силу необходимости хорошо знавшего город и его нравы, юношу не устраивала. Тонкое бледное лицо, большие глаза, вьющиеся каштановые волосы, наличие «тайн» эмоционального характера сочетались у него с определенной франтоватостью (добавим, что Диккенс любил все яркое: огонь, герани в цвету, изумрудно-зеленую краску, кольца), ужимками прирожденного комика-непоседы (любившего развлекать окружающих и быть в центре внимания), а также оптимизмом — с верой в свое предназначение. Он освоил скоропись, занимался в библиотеке Британского музея, брал (для души) уроки актерской игры. И к ноябрю 1828 г. стал вольнонаемным стенографистом в юридических конторах, суде (другое важнейшее измерение диккенсовского мира – вспомним хотя бы Министерство Волокиты в романе «Крошка Доррит» или Канцлерский суд из романа «Холодный дом»). Но конечная цель самообразования была иная — работа парламентским репортером, на слух, особыми фонетическими знаками, записывающего выступления членов Палаты общин. Им 19-летний молодой человек и сделался с 1831 г., выполняя поручения еженедельника «Миррор оф парлимент» (его издавал дядя Чарлза), печатавшего отчеты о парламентских заседаниях. В 1831–1834 гг. Диккенс накопил немалый опыт наблюдения за политическими нравами — выборами 1832 г., обсуждением нового закона о бедных. Его стали ценить как автора (помимо «Миррор» это с марта 1832 г. «Тру сан»), писавшего в любых условиях: при помощи скудного светильника на парламентской галерее для визитеров; когда требовалось, на руке. Уже в газете «Морнинг кроникл», в штат которой он вошел в 1834 г., ему поручают помимо политических заметок о выборах (Диккенс путешествует по стране) теат ральные рецензии, обо зрение светской жизни, полицейскую хронику — словом, освещение того мира, который под занавес жизни он ретроспективно сравнил с «демоническим зоологическим садом».
С конца 1834 г. Диккенс, и ранее самостоятельно обеспечивавший свою жизнь, даже спасший отца от нового заключения в долговую тюрьму (1831), начинает вместе с братом Фредриком жить отдельно от родителей в Хэмп стеде. Колеблясь в выборе дальнейших планов, он задумывается об отъезде в колонии. Однако судьба распорядилась иначе. Диккенс повстречал 19-летнюю Кэтрин Хогарт (1816–1876), одну из трех дочерей издателя «Морнинг кроникл», и довольно быстро, в мае 1835-го, предложилей руку и сердце.
Венчание в церкви Святого Луки (Челси), последовавшее 2 апреля 1836 г., стало выходом из душевного кризиса. Он пришелся на 1830–1833 гг., когда молодой человек, сгорая от неразделенной любви, оказывал знаки внимания дочери банкира Марии Биднелл, девушке, чьи черты присущи в опре деленной степени Доре в «Дейвиде Копперфилде» и, возможно, Эстелле в «Больших ожиданиях». Биографы Диккенса (Г.К.Честертон, Ф.Каплан, П.Акройд) полагают, что сила этого платонического чувства, не имевшего шансов на успех (родители, испуганные ухаживаниями «Диккина», как они его презрительно называли, даже услали дочь в Париж), скрываемого от окружающих, а также боль отвержения любимой сильно подействовали на формирование личности Чарлза.
Внутренняя ранимость и сильная воля, лирические переживания и смех, страхи «маленького мальчика» и претензия на респектабельность, потребность в одиночестве и склонность к эксцентричному развлечению окружающих — все это стало в Диккенсе как трамплином творчества, его повторяющихся тем, так и способом разрешения некоторых жизненных проблем. Г.К.Честертон в книге «Чарлз Диккенс» (1906), комментируя женитьбу Диккенса, высказал мнение, что после стольких лет лишений, бедности, борьбы за существование «сама идея женственности опьянила его… по несчастной случайности он выбрал не ту, кого надо бы…» В суждении Честертона есть доля правды. Сблизившись с семьей Хогарт, Диккенс не меньше, чем Кэтрин, обожал ее младшую сестру Мэри. Во всяком случае, ее скоропостижная кончина 7 мая 1837 г. в семнадцать лет вызвала у него мучительную боль — Диккенс не только стал носить кольцо, снятое им с руки покойной, хранил локон Мэри, некоторые из ее вещей, но и высказывал пожелание быть похороненным с ней в одной могиле. Он также утверждал, что в течение года Мэри являлась ему во сне. Соответственно, в прозу Диккенса входит фигура идеальной женщины (Флоренс Домби, Эстер Саммерсон и др.), первая из которых — маленькая Нелл из романа «Лавка древностей». Дальнейшая супружеская жизнь Диккенса знала взлеты и падения. Кэтрин в 1837–1849 гг. родила ему десятерых детей (которых писатель очень любил), сопровождала в путешествиях.
Тем не менее в отношенииписателя к жене, начиная приблизительно с 1843–1844 гг. и времени семейного выезда в Италию, глубинно что-то разладилось. В 1857 г. на репетициях пьесы своего друга и соавтора Уилки Коллинза Диккенс познакомился с 18-летней актрисой Эллен Тернан и влюбился в нее. С 1858 г., живя в Гэдз-хилле, супруги фактически жили раздельно: при известности Диккенса развод в викторианскую эпоху был немыслим. В связи с этим следует упомянуть, что, возвращаясь с Эллен и ее матерью на поезде из Франции, Диккенс 9 июня 1865 г. попал в железнодорожную катастрофу и чудом уцелел: его вагон остался единственным, не сошедшим с рельсов. Рукопись же незаконченного романа, который он вез с собой («Наш общий друг»), поначалу была забыта на месте происшествия, но затем найдена.
Начинался же творческий путь Диккенса иначе. В 1833-м выходит его первая анонимная публикация, скетч «Обед на Поплар-уок» в журнале «Манфли мэгезин». За ним последовали другие скетчи — что-то среднее между рассказом и очерком, наблюдением нравов, — о Лондоне, адресованные скорее сельским, чем городс ким жителям. Один из них в августе 1834 г. был подписан псевдонимом Боз (производное от Мозес — англ. Моисей), именем персонажа из романа О.Голдсмита «Викарий из Уэксфилда».
Носивший его чудаковатый сын сельского священника прославился, в частности, тем, что вместо денег вернулся с ярмарки, куда его отправили продавать лошадь, с зелеными очками. Осенью 1835 г. молодой издатель Джон Макроун решился перепечатать диккенсовские скетчи в одном томе.
В итоге, через несколько дней после объявления в «Таймс» о предстоящей свадьбе Диккенса, в феврале 1836 г. увидели свет «Очерки Боза» (Sketches by Boz, Illustrative of Every-Day Life and Every-Day People).
Они были весьма благосклонно приняты читателями, рецензентами, но славу, почти мгновенно, как по волшебству, вышедшую за границы Англии, Бозу — а имя это долго сохранялось в памяти современников — принес роман «Посмертные записки Пиквикского клуба» (The Posthumous Papers of the Pickwick Club, 1836–1837) о благодушном чудаке Пиквике, трогательное донкихотство которого противопоставлено грубости буржуазного мира.
Поначалу Диккенсу в выпуске «Пиквика» отводилась второстепенная роль: издатель У.Холл предложил ему сочинить подписи к «сериалу» — ежемесячным, ценою в один шиллинг, выпускамжанровых картинок известного карикатуриста Р.Сеймура. Их темой должны были стать развлечения членов некоего «Клуба Нимрода» из лондонского Кокни, модный спортивный досуг горожан. Диккенс не владел материалом, связанным с крикетом, однако природный дар юмориста позволил ему и придумать имя заглавного персонажа и свободный сюжет (позволявший героям оказываться в разных местах и ситуациях), и убедить Холла в преимуществе замышлявшегося им текста над графикой. Как это ни печально, но Сеймур после объяснений по этому поводу с Холлом и Диккенсом покончил с собой. И напротив, Диккенс после выхода в марте 1836 г. первой книжки «Пиквика» (32 страницы текста, четыре гравюры Сеймура, зеленая бумажная обложка, 400 экземпляров) начал путь к известности. И она не заставила себя ждать. Тираж четвертого выпуска (в нем появляется слуга Пиквика Сэм Уэллер, с одной стороны, и графика «Физа» — Х.К.Брауна, наряду с Дж.Крукшенком одного из лучших иллюстраторов Диккенса, с другой) достиг 40 тысяч экземпляров; девятый же, что говорило о его сногсшибательной популярности, состоял из 70 страниц (первые 39 из которых были отведены чуткой к массовому успеху рекламе!).
И последующие романы Диккенса, перед тем как выйти отдельным изданием, поначалу печатались по частям, сопровождались иллюстрациями. Сочиняя иногда по два романа одновременно, писатель, имея лишь общий план, «опережал» читателей на один выпуск, учитывал их отзывы (порой даже изменяя сюжет и концовку, как это произошло по совету писателя Э.Булвер-Литтона с исходно трагической развязкой романа «Большие ожидания»), а также, сохраняя развлекательность, определенную детективность сюжета, ставил вопросы об истине, любви, оправдании страдания, смерти и др. Эта стратегия удержания читателя «на крючке» неизменно срабатывала, и некоторым нетерпеливым читателям приходилось ждать около двух месяцев (в США к этому сроку следовало добавить около 20 дней — время плавания в Америку корабля с новыми «тетрадями» из Англии), чтобы узнать, живы ли Оливер, Нелл или на ком именно женится Дейвид Копперфилд. Любопытно, что рецензенты, по-видимому отметив для себя, что в романе представлена «смесь», знакомая им по «Очеркам Боза», затруднялись в определении жанра «Пиквика». Для одних это была проза, для других — газетные заметки из рубрики «Разное».
Вторым крупным произведением Диккенса стал роман «Приключения Оливера Твиста» (The Adventures of Oliver Twist, or The Parish Boy’s Progress, 1837 –1838) — счастливо завершающаяся история похождений бедного сироты, чья ангельская чистота, стойкость перед злом противостоят алчности взрослых, преступному миру лондонских трущоб.
В ней имеются колоритные персонажи, переходящие из одного диккенсовского романа в другой: надзиратель провинциального приюта Бамбл, наставник воров-карманников Феджин, злодей Монкс, альтруист м-р Браунлоу, падшая, но переживающая свое падение девушка Нэнси. Роман исполнен патетических интонаций, рисует мир, балансирующий на грани сказки и реальности, сочетает предсказуемость мелодрамы с неожиданно страшными сценами (Монкс и Феджин смотрят в окно на маленького Твиста, и тот, вроде бы находясь в безопасности, кожей ощущает близость зла; гибель Билла Сайкса). В книжном издании (1839) автор отказался от псевдонима Боз, впервые представ перед читателями под собственным именем.
Другие ранние сочинения Диккенса — авантюрный роман «Жизнь и приключения Николаса Никлби» (The Life and Adventures of Nicholas Nickleby, 1838–1839) с его фигурами злодеев-аристократов и замечательным своей нелепостью мистером Манталини, а также роман-сказка «Лавка древностей» (The Old Curiosity Shop, 1841). В нем идеализируется детский характер рано умершей девочки, вынужденной со своим дедушкой скитаться по Англии, скрываясь от преследующего ее злобного карлика Квилпа и находя поддержу со стороны как влюбленного в нее предприимчивого бедного мальчика Кита, так и характерных диккенсовских альтруистов-взрослых. Оба романа патетичны, построены на четком противопоставлении положительных и отрицательных персонажей. В дальнейшем Диккенс постарался усложнить схему своих произведений. Черты авантюрно-приключенческого и исторического жанров сочетает роман «Барнаби Радж» (Barnaby Rudge, 1841), где сплетены вместе история любви молодых людей, антипапистские беспорядки 1780 г. (на несколько дней охватившие Лондон), тайна убийства сельского джентльмена и нечто символическое (таков Барнаби с его вороном — человек не от мира сего). В начале 1840-х Диккенс, сохраняя авантюрность интриги, искал возможности сближения семейно-бытового романа и романа воспитания.
Появившаяся в результате книга «Мартин Чаззлвит» (The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit, 1843–1844) писалась долго, содержала яркие комические персонажи (Пекснифф, миссис Гэмп), но была, пожалуй, излишне осложнена сюжетно. Однако именно лишний поворот сюжета добавил этому роману своеобразие, элементы фарса — автор отправил Мартина из Англии в Америку, вслед ствие чего стала возможной гротескная сатира на прямолинейность манер американцев, отсутствие у них юмора, а также на американскую демократию, оптимизм которой, в изображении Диккенса, под влиянием ограниченных политиков и раздуваемого прессой патриотического самодовольства способен переродиться в идиотизм. Такое впечатление о США как о «Корпорации земли обетованной» очень обидело американцев, следует отметить, везде оказывавших тридцатилетнему Диккенсу восторженный прием, когда тот находился в их стране в январе — июне 1842 г. и посетил с женой Бостон, Нью-Йорк, Вашингтон (там он был принят президентом Дж.Тайлером) и другие города, доехав до Ричмонда на юге, Миссисипи на западе (Сент-Луис) и Ниагарского водопада на севере.
По-видимому, поездка в Америку (писатель побывал там еще раз во время турне 1867–1868 гг.) стала важной вехой его творческой биографии. Диккенс словно взглянул на себя, свои ранние романы, на все английское со стороны и сделался как писатель глубже, лиричнее, сохранив при этом удивительное чувство комического. Свидетельствует об этом, в частности, появление его так называемых Рождественских сочинений сравнительно камерного формата. Строго говоря, лишь первое из них, «Рождественская песнь в прозе» (А Сhristmas Carol in Prose, декабрь 1843 г.), непосредственно связано с Рождеством, тогда как последующие, «Колокола» (The Chimes, 1844), «Сверчок на печи» (The Cricket on the Hearth, 1845), «Битва жизни» (The Battle of Life, 1846), «Одержимый» (The Haunted Man, 1848), больше ассоциируются с атмосферой встречи Нового года. Интересно, что «Колокола», наиболее серьезная и даже трагическая из этих «сказок» (пускай описанное в ней и происходит, как выясняется в финале, во сне), написаны во время еще одного путешествия, и не где-нибудь, а в далеко не снежной Италии: Диккенс прожил в Генуе с середины июля 1844 по июнь 1845 г.
Другой важный выезд, в Швейцарию (1846), совпал с вынашиванием замысла романа «Домби и сын» (Dealings with the Firm of Dombey and Son, 1847–1848). В этом первом психологическом шедевре Диккенса просматривается развернутое обоснование его этического кредо. Через драму отношений отца и сына писатель раскрыл многогранность детского сознания, не только невольно «просвещающего» тьму мира взрослых, но и приходящего через неприятие зла (порочность жестко регламентированного мира собственников, обделенных истинным пониманием любви, семейных ценностей) к постижению тайн времени, вечности.
Помимо работы над «Домби» Диккенс, все еще переживая синдром некоторого финансового беспокойства, активно занимался издательской деятельностью, основал газету «Дейли ньюс» (1846), «запустил» в 1850 г. собственный литературно-художественный еженедельник «Домашнее чтение» (позже, в 1859-м, к нему добавится еще один, «Круглый год»). Роман с Эллен Тернан активизирует в Диккенсе то, к чему он был склонен с детства — публичному чтению своих сочинений. С 1858 г., получая от этого немалый доход, он начинает выступать с чтением собственных сочинений и уже в 1860-е гг. осуществляет это столь активно (турне по Англии, Ирландии, США), что подрывает здоровье. Восьмого июня 1870 г. писателя разбил инсульт, он упал со стула и на следующий день скончался в Гэдз-хилл плейс. Последними его словами, которые он прошептал в присутствии дочери, стала несколько загадочная фраза: «Да, на землю». Учитывая род занятий Диккенса, можно предположить, что он неосознанно молил небо об освобождении его от сочинительства «другой жизни», от полетов воображения и жаждал опуститься на землю — стать только человеком...
Четырнадцатого июня Диккенс в знак заслуг перед нацией был похоронен в Вестминстерском аббатстве в так называемом «Уголке поэтов», хотя в завещании, смиренном по духу, оставил распоряжение о своем погребении в Рочестерском соборе, возражая против какого-либо посмертного «обожествления» своей персоны.
По-настоящему зрелый период творчества Диккенса открывается его любимым произведением — автобиографическим романом «Дейвид Копперфилд» (David Copperfield, 1849–1850), рассказывающим о становлении писателя. Некоторый пессимизм Диккенса относительно социальных реформ, морального совершенствования английского общества отражен им в романах «Тяжелые времена» (Hard Times, 1854), где усиливаются сатирические интонации, и «Крошка Доррит» (Little Dorrit, 1855–1857) с его образом тюрьмы как универсальным символом бытия. В историче ском романе «Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities, 1859) Диккенс, не оправдывая французскую аристократию, поднимает тему опьянения насилием во время французской революции 1789–1794 гг. и дает уничижительный образ «детей кухарок», которые, дорвавшись до управления государством, никак не могут утолить свою жажду крови. Сложные сюжетные ходы, детективность интриги характерны для последних диккенсовских романов — «Наш общий друг» (Our Mutual Friend, 1865), «Тайна Эдвина Друда» (The Mystery of Edwin Drood, 1870, не окончен).
Вершина же диккенсовского творчества – романы «Холодный дом» (Bleak House, 1852–1853) и «Большие ожидания» (Great Expectations, 1860–1861). Первый из них — семейная драма, основанная на искусном контрапункте нескольких повествовательных линий. Роман поднимает весь комплекс характерных для Диккенса тем: бездушия современного общества; зла, царящего в нем и способного выдавать себя за добро; незащищенности, одиночества детей, а также искупительных жертв, приносимых за проступки прошлого. Роман «Большие ожидания» уже не столько автобиографичен, как «Дейвид Копперфилд», сколько построен в форме автобиографии. Его герой Пип, превращаясь из деревенского оборвыша (помогающего бежать каторжнику и получающего от того в дальнейшем тайную поддержку) в лондонского джентльмена, мучительно расстается с иллюзиями о сословном снобизме (мир мисс Хэвишем и Эстеллы), о привлекательности богатства и готов, отказавшись от роли социального лицедея, пережить нравственное возрождение.
Кратко характеризуя творчество Диккенса в целом, можно сказать, что его произведения демократичны (адресованы широкому кругу читателей), пронизаны сочувствием к социально обездоленным, невинно пострадавшим, женщинам, детям; добро, теплота сердца, индивидуальная предприимчивость берут в них верх над злом, бессердечием, властью денег, зловещими людьми-масками, безличием сословной и бюрократической системы. Идеальным адресатом Диккенса, наверное, можно считать девушку, молодую женщину, которые призваны отождествить счастье любви со счастьем семейной жизни. И в самой диккенсовской психее заключено нечто женственное, то «доброе сердце», которое отделяет природного, естественного человека и его способность грезить, сопереживать (и в некотором умилении всегда видеть свет сквозь тьму, туман, бурю) от «неестественного», принадлежащего регламентированному городскому обществу.
Лучшие диккенсовские романы многосоставны. Помимо того что в них сочетаются мелодрама и трагедия, юмористические зарисовки и фарс, драматическое действие и театрализованные сцены, диалоги, это продуманная (хотя и не всегда сбалансированная) система историй, историй в историях. Поэтика Диккенса основана на ярких, близких к гротеску характеристиках (особо гротескны олицетворения зла, «подполья» человеческой души: Квилп в «Лавке древностей»; Талхингхорн, Крук в «Холодном доме»), использовании пейзажных и портретных лейтмотивов (зубы Каркера в «Домби и сыне», пальцы-когти Риго-Бландуа в «Крошке Доррит»), а также символических образов (часы, железная дорога, море в «Домби и сыне»; трущобы, туман в «Холодном доме»; река в «Нашем общем друге»), говорящих имен. Диккенс мастерски дополняет одновременное ведение нескольких планов рассказа неподражаемой комичностью ситуаций, элегически-патетическими интонациями, риторическими вопросами, варьи рованием темпа повествования (иногда, надо сказать, вялого, много словного – писателю приходилось «растягивать» свой материал на несколько выпусков).
* * *
Мир, созданный Диккенсом, обладает удивительным свойством.
С одной стороны, это плод воображения и диккенсовские книги сродни сказкам, волшебным историям, которыми зачитываются не только дети, но и взрослые. Отсюда частая и, заметим, бьющая, если вдуматься, мимо цели критика Диккенса — современника рождения современной буржуазной цивилизации — за «недостатки» его сочинений (назидательность, мелодраматизм, безудержные преувеличения, определенное многословие и т.п.), за «лицедейское» подыгрывание любителям чтива, невзыскательной читательской публике викторианской эпохи, которая, окутывая себя вслед за писателем чудесной иллюзией, как бы не желает взглянуть на жизнь критически, оценить социальные по следствия индустриализации, резкого расслоения общества.
С другой – подобный художественный мир, как все истинно чудесное, реален и сверхреален: со всеми своими литературными «слабостями», подчинил себе значительную часть эры королевы Виктории (1837–1901), какой бы в действительности она ни была, а подчинив, одухотворил, призвал к эстетическому бытию, сделал волшебством свистящей английской речи, россыпью бессмертных образов, ситуаций, выражений, вещей и мест. Иными словами, история и истории, рассказанные Диккенсом, со временем, как бы против этого ни протестовали «социальные критики» или снобы (ценители хладной литературной инженерии), постепенно поменялись местами. Давно нет Лондона 1830–1840-х, но есть книги Диккенса — вечное оправдание викторианства в искусстве.
Диккенсовский Лондон и есть викторианский Лондон! Иначе, думается, уже современники не зачитывались бы Диккенсом, не ассоциировали бы написанное им с собой, собственными бытом, фантазиями, страхами! Диккенсовские бедные мальчики, добродетельные девушки, эксцентричные джентльмены, клерки, конторы, банки, тюрьмы, зловещие злодеи — все это было, стало реальностью творчества, всеми узнаваемыми художественными формами благодаря реально жившему человеку, Диккенсу -поэту. Он не только смотрел на мир не так, как окружающие, а значит, видел его интенсивнее, с долей театральности, на контрасте дневного и ночного, реального и ирреального, смешного и ужасного, но и сделал приложением своего лиризма столицу империи. Лондон Диккенса не принадлежит буколической, сельской, аристократической Англии, не является скрепой одной-единственной биографии.
Это нечто заведомо нецельное, сочетание нищеты и богатства, свободы и несвободы, счастливого марьяжа и одиночества, шансов выбиться в люди и катастроф. Он как конкретен, так и разбросан в пространстве, имеет эту и другую — чердачную, трущобную, «подземную» сторону. Его постоянно из конца в конец пересекают пешком, в экипажах, по Темзе. Лондон, иначе говоря, — сама стихия нового романа, которую первымиз английских писателей направляет в определенное русло именно Диккенс. И делает это свободно, естественно, как будто сам живет в выдуманном: держит в руках несколько повествовательных нитей, его рассказы вставляются в рассказ и как бы всегда имеют продолжение — был бы постановщик и рампа театра, комедии, был бы читатель-зритель, восхищенный яркостью действующих лиц, самих сгустков изобразительности. Где-то похожее сочетание фантасмагоричности бурлящего, ходящего кругами нового мира (где смешалось новое и старое, театр и проза, донкихоты и буржуа), а также вещности, смеха мы находим у других великих писателей-визионеров XIX века — Бальзака, Достоевского, — создателей городов сколь реальных, способных подчас вдохновить, просветить, самореализоваться, столь по преимуществу и призрачных, шлющих проклятие денег, развращение нравов, насилие над женщинами и детьми.
В роли создателя магических картин буржуазного Вавилона, который только-только заявил о себе после французской революции 1789–1794 гг. и наполеоновских войн, писатель потеснил в правах другого важнейшего творца английского языка, Шекспира. С явлением Диккенса тот, сохраняя свое национальное культурное значение, как бы смещается из жизни на подмостки искусства. К тому же гений Шекспира повернут в сторону драмы — тончайшей психологии, обращенной внутрь персонажа, к некоей загадке молчания, которая с пространством сцены, весьма условным, соотнесена через различные эмблемы. У Диккенса же живопись (повороты сюжета, обстановка, костюм, диалект) на первом месте, главный атрибут романа как прежде всего полновесного пространства, сообщающего о себе очень свободно, органично. Эта торжествующая щедрость, если не теплота, диккенсовской манеры — рождающей из ничего целый мир с его приблизительно 2000 жителями — многим внушала мысль о том, что Диккенс излишне красноречив, ничего не может сказать сжато, не преувеличив, и что при всем своем замечательном юморе так и не возвысился до создания подлинной трагедии. Не споря с этой оценкой, принадлежащей, к примеру, С.Цвейгу («Три мастера», 1920; точнее было бы, на наш взгляд, говорить об отсутствии пессимизма у Диккенса), — чем же тогда будут, к примеру, «Большие ожидания»? — противопоставим ей мнение А.Блока, высказанное приблизительно в то же время («Крушение гуманизма», 1919): «Эти уютные романы Диккенса — очень страшный и взрывчатый матерьял; мне случалось ощутить при чтении Диккенса ужас, равного которому не внушает и сам Э.По».
Так или иначе, но магия диккенсовского мира (при всей его неоспоримой условности и кажущейся нетрагичности) оказалась столь сильной, что вплоть до конца ХХ в. не осла бевали попытки развенчать миф викторианства именно через критику Диккенса (у И.Во в романе «Пригоршня праха», 1934), через изображение на основе «подлинных» документов и фактов того, что было в золотой век британского буржуа «на самом деле» (роман Дж.Фаулза «Женщина французского лейтенанта», 1969). И все же Диккенс попрежнему одна из основ английскости и как творец все еще остается непревзойденным, той великой тенью, тем «другим я», с которым вольно или невольно вынужден считаться при борьбе за новое в своем языке, за свой литературный Лондон каждый значительный британский писатель (см. под этим углом зрения на творчество Питера Акройда, автора романов с узнаваемой диккенсовской темой, биографии «Диккенс», 1990, книги «Лондон», 2000).
Конечно, можно назвать немало авторов, которых с увлечением читал юный Диккенс и каждый из которых по своему готовил его явление. Прежде всего это романисты (Д.Дефо, Дж.Свифт, Г.Филдинг, Л.Стерн, Т.Смоллетт). Но здесь помимо драматургии Р.Шеридана уместно вспомнить английских поэтов-романтиков. Ведь именно романтики вывели пуритански окрашенные образы воспитания у жизни (роман воспитания — ведущий жанр английской прозы XVIII в., его квинтэссенция — повествование Филдинга о найденыше Томе Джонсе) и «самосделанной» личности (у Дефо в «Робинзоне Крузо») за рамки рассудочности, лишили их черт утилитаризма, определенной провинциальности. Дж.Н.Г.Байрон направил своего героя в странствие по Европе («Паломничество Чайлд Гаролда», 1812–1818), чтобы отразить в нем панораму целого мира в движении. С.Т.Колридж и У.Вордсворт («Лирические баллады», 1798) взялись в мелочах именно английской сельской жизни найти отпечаток универсума, перекинуть мостик от родного к вселенскому.
Диккенс, надо сказать, не задумываясь особо о литературной стороне дела, — в этом смысле он, скорее, не профессионал (в особенности как его современники, французские писатели), а медиум, стихийный выразитель духа нового времени, тот джин, который вырвался из бутылки и творит на глазах изумленных зрителей арабские сказки из материа ла низовой городской жизни, — не только стремительно собирает урожай с литературного поля, подготовленного целым веком предварительной работы, но и заставляет младших современников повторять себя (нес колько наивно — в случае Т.Харди и особенно М.Твена, изощренно — у Г.Джеймса). Он словно не считается с В.Скоттом, корифеем 1820-х. Словом, Диккенс — подобие бессмертного Рипа Ван Винкля из одноименной новеллы В. Ирвинга, простак, «вечный ребенок», проспавший на вершине горы много лет, пропустивший время войн и революций, с тем чтобы затем, спустившись с нее, открыть, что старый аристократический мир исчез, и увидеть всё в «наш век гуманности, промышленности и железных дорог» (Достоевский) как впервые, так и отстраненно — глазами отнюдь не бальзаковских прекрасных хищников, Люсьена Рюбампре или Растиньяка, а самой невинности.
Кстати, в этом смысле Диккенс — романтик и контрромантик одновременно. На мощный вызов романтической поэзии, главного литературного события Англии первой трети века, он, сам того не зная, гениально ответил тем, что перенес лирику, трепет одинокой, нуждающейся в любви детской души (ею наделен и немолодой мистер Пиквик), чем-то несомненно устрашенной, во взрослый, холодный мир «Домби и компании» — мир денег, процентов, цифирь, бесконечных судебных тяжб, брака как коммерческой сделки, людей-масок, безудержного фарисейства, палочной пуританской дисциплины. И этот мир в золотом свете детства, стойкой природной невинности раскрывает свою несостоятельность, чтобы либо в отсутствие бытийной подлинности исчезнуть, либо расцветиться даже в своих всецело темных частях искрами и по мере развития сюжета ослепительно красиво сгореть. То есть Диккенс вдувает дух лирической дрожи туда, где ему вроде бы, в отличие от романтических грез с их вечно ускользающими страной Эльдорадоили дворцом Кубла Хан (в знаменитом поэтическом фрагменте С.Т.Колриджа), и быть не положено — в пресловутый британский реализм, позитивное, в специфически английское отождествление морали и материального благосостояния, в сам английский смех!
Однако Диккенс не только расширял границы романтизма, давая свой, и неожиданный (хотя бы по меркам немецкого романтизма с его презрением к буржуа, «филистерству», безмузыкальному миру), образ «града поэтической души» (Байрон) — в нем, правда, не напоминают о себе характерные для многих романтиков тирано и богоборчество, отчаяние, горделивая влюбленность в рок, фаталистическое искание смерти, противопоставление гения толпе, косности общества, самой материи, нарциссическая цветистость манеры и т.п., — не только, как многие романтики, был критичен к деятельности парламента и даже принимался порой за «радикала» (печатаясь в молодые годы в либеральной прессе, выступая в определенной мере сторонником реформистских идей И.Бентама), но и выступал реакционером. Реакционер он, если так можно выразиться, и сословно (выходец из малообеспеченных слоев общества, он, прославившись, сделал все, чтобы поддерживать респектабельный образ жизни, и даже купил Гэдз-хилл, который запомнил с детства как воплощение социальной мечты), и культурно (понимание на основе собственного кругозора культурных запросов среднего класса — читателей в целом моральных, способных оценить юмор или занимательность сюжета, но не имеющих особого интеллектуального багажа, немаловажного при чтении поэтов-романтиков, — если не вольнодумцев, то аристократов духа), и политически (противник всяческого радикализма, а также революционности, опьянения кровью — последнее дает почувствовать «История двух городов»), и юридически — вера в закон была для Диккенса верой в священные права собственности, в соблюдение «копирайта», несоблюдение которого американскими издателями лишало его немалых доходов, и, наконец, по своему статусу Рассказчика.
Продолжений его годами печатавшихся по частям романов с нетерпением ждали во всех уголках громадного к середине XIX в. англоговорящего мира. Ждали их и читатели других стран. Именно Диккенс одним из первых благодаря мгновенно появлявшимся переводам втягивает их в сферу распространения канона: мировой литературы (состоящей теперь, помимо греческих и латинских авторов, классицистов, из современной классики — мещанской прозы), мирового семейного чтения вслух, мирового значения английского языка и британской культуры, живо представляемых уже не по Шекспиру, а по «Пиквику», «Оливеру Твисту», «Дейвиду Копперфилду».
Еще раз обратим внимание на это неуловимое, но в то же время мощнейшее, знакомое русскому читателю по творчеству Пушкина, Гоголя, Достоевского свойство. Диккенс — певец империи, поэт имперского начала, империи, достигшей расцвета, предназначенной для мировой миссии. Но дело здесь не в том лишь, что он — верноподданный, с блеском писавший для таких, как он сам, подданных короны и чад Англиканской Церкви, автор, способный войти в любой английский дом, в детство каждого англичанина и воскликнуть: «Британия — это я!»
Диккенс, добавим, — это берущая от чувства империи в языке (с этим, наверное, можно только родиться, а не усвоить с чужих слов!) вера в бытие книги, вымысла, в Назначение писателя. То есть перед нами не гений, зажигающийся энтузиазмом при виде презренной толпы, не вечный (и всегда неудовлетворенный) искатель невыразимого, абсолютной свободы слова, не созерцатель стихии, ищущий спасения от «все течет» в преступлении, богохульстве и даже добровольном отказе от жизни, не эстет, пытающийся расшевелить свою скуку «экспериментами» над своей чувственностью, провокациями, а герой, своего рода светский священнослужитель.
Потребность в подобном герое, в подобного рода новой святости, сформировавшейся именно в стремительно секуляризовавшемся мире, зафиксировала культура XIX — начала XX столетия в целом. Ее вариации — мечта о поэте-пророке, памятнике нерукотворном (то есть «вечной книге», «книге в книге», «бессмертии в творчестве» и т.п.), о «властителе дум», о писателе-гражданине, силой своего слова защищающего «обиженных и оскорбленных», останавливающего казнь, об «искусстве для искусства», о «сверхчеловеке», о творце нового языка, новых имен и даже мировой революции, зажженной впервые в творчестве.
Сознавал ли себя таким новым святым Диккенс? Этот вопрос не надуман: Диккенс плоть от плоти человек протестантского мира, причем протестантизма, в XIX в. ускоренно расщеплявшегося на секты (порой самые фантастичные), перерождавшегося из веры в идеологию (в викторианскую мораль — специфическую систему общественных запретов), в этику делового успеха, культ служения империи. В определенной степени да, сознавал.
Об этом говорит его отношение к писателю и историку Томасу Карлайлу (1795–1881), которого в разговоре с одним из сыновей он характеризовал как повлиявшего на него более чем кто-либо. Речь идет, конечно, не только об «Истории французской революции» (1837), труде, знакомство с которым отразилось в романе «Повесть о двух городах», но и об оценке современности. Диккенс, посвятив Карлайлу роман «Тяжелые времена», в целом разделял с этим пламенным романтиком-пессимистом отношение к 1840-м как времени на поверхностный взгляд богатому, но в действительности глубинно кризисному, «зловещему» — всецело материальному («Для нас нет более Бога! Законы Бога сделались Принципом наибольшего счастья, Парламентскими приемами…»), поклоняющемуся «триумфу Кошелька», скептическому, машинообразному («баллотировочный ящик», индустриализация, строительство железных дорог), безлично-пошлому, а потому ради своего спасения остро нуждающемуся в «героях» — тех «вождях человечества», которые привносят в жизнь, труд жар идеального измерения. Подобные реформаторы, продвигавшие вперед историю, существовали прежде в одних формах (Один в скандинавской мифологии, Магомет, Лютер, Кромвель, Наполеон и др.), рассуждает Карлайл в работе «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1841), но теперь многие из этих форм («герои как боги, пророки, пастыри») безвозвратно ушли в прошлое. И напротив, прежде нереальное теперь, в эпоху печатного станка, рынка, библиотек, сделалось возможным. Это относится к подлинному или, как выражается Карлайл, помня о Ж.Ж.Руссо и Ф.Шиллере, «искреннему» писателю: «В сущности, он выполняет ту же самую функцию, за исполнение которой люди древних времен называли человека пророком, священником, божеством… <…> Разве книга не совершает до сих пор чудес, подобно тому как, согласно баснословным преданиям, совершали их некогда руны? Самый последний из библиотечных романов засаливается глупыми девицами… и таким образом оказывает действительное, практическое воздействие на браки и домашний быт. <…> Книги – это наша церковь».
Диккенс, правда, прежде всего художник, а не философствующий публицист, переживший на манер Карлайла утрату веры отцов и пытающийся во что бы то ни стало восполнить открывшуюся ему пустоту бытия новым идеалом, неким вечным «да». К тому же, как человек, вышедший из гущи народной жизни, он сроднился с бытовыми формами англиканства, ценностями семьи, дома и далек от «крайностей» — как, в особенности, от пуританствующих представителей «низкой церкви», намеренных изгнать из англиканства все, что напоминает в нем о папизме (известно, к примеру, что Диккенс был крайне отрицательно настроен к секте шейкеров), относящихся с большой сдержанностью к светским развлечениям, смеху, так и от порывов «высокой Церкви», пытающейся заново найти точки соприкосновения с католичеством или православием.
То есть, не получив религиозного воспитания, не будучи набожным, Диккенс рос в религиозном обществе и принадлежал «середине», тем, кто в семейном кругу читает, комментирует от себя Книгу (Библию) в переводе короля Иако ва, отмечает главный христианский праздник (в Англии — Рождество), а также морально вдохновляется примером Христа — Его добротой, любовью к «малым сим». Думается, не случайно, что Диккенс, в художественном языке которого немало библеизмов, а также отсылок к известным сценам Священного Писания, является автором книги для детей «Жизнь нашего Господа» (The Life of Our Lord, 1846–1849, публ. 1934). Это — переложение Евангелия от Луки, которое он писал одновременно с романом «Домби и сын».
Вместе с тем, хотя писатель не раз говорил в разговорах со своими детьми, в письмах и некоторых очерках («Древо Рождества») о Новом Завете как «лучшей книге» из когда-либо созданных, о «красоте» христианства, об Иисусе Христе как «образце всего самого доброго» и источнике «христианской религии», ничто в его романах напрямую с верой в Христа не соотнесено. Также, существуя в виде религии сердца, общего моралистического настроя, веры в стойкость добродетели, победы добра над злом и критики «холодных сердец», некоторых законов и социальных институтов, диккенсовское христианство проходит мимо Таинств, мимо Церкви. Да, Диккенс целомудрен, не несет в себе ничего богоборческого, антиклерикального (что резко выделяет его на фоне английских и французских писателей-современников), смеется над модным в середине XIX века интересом к спиритизму (свойственным, в частности, Б.Дизраэли, одному из наиболее популярных писателей 1830–1840-х гг.).
Вместе с тем ничто церковное ему, по сути, не близко, а потому соборы в его прозе остаются источником колокольного звона, церковным двором, где встречаются оборвыш и беглый каторжник, или тем несколько пыльным местом, особым бюрократическим мирком (средоточием условных ритуалов, несколько карикатурно выведенных пастырей), откуда побыстрее спешат вырваться на свежий воздух. Учитывая, что Диккенс перевоплощался в своих персонажей, а также был прирожденным актером и с успехом читал свои произведения со сцены, можно допустить, что в христианстве сочинений Диккенса преобладает не что-то с очевидностью христианское, а нечто специфически диккенсовское, диккенсианское — пафос моралиста, ощущающего интерес к себе громадной аудитории и, безусловно, верящего, как уже говорилось, в реальность своего вымысла, в авторитет именно своей миссии, своего прежде всего артистического видения мира. Крайне трудно, если невозможно, представить Диккенса на месте Гоголя, сжигающего свою рукопись, приносящего творчество в добровольную жертву вере.
Диккенс, добавим, слишком занят развертыванием своего рассказа, сюжетным движением персонажей, колоритными подробностями, контрастами, чтобы дать почувствовать не иллюзорную, а действенную реальность зла в мире. Диккенсовские злодеи всегда в лучах добра, «доброго человека» делаются не только карикатурными, условными, но и обаятельными, приносящими читателю в виде яркой куклы наслаждение.
Подобное изображение мира как театра и театра как мира подчеркивает наличие в Диккенсе большого ребенка, его далекость от пуританской мрачности. Мещанская повседневность в его изображении способна быть источником маленьких удовольствий и чудес (что вслед за Диккенсом повторит бельгиец М.Метерлинк в драме-сказке «Синяя птица»), источником скромной, но полновесной радости! Диккенсовские персонажи готовы, когда позволяют обстоятельства, поесть, повеселиться, приодеться, влюбиться. Они, если угодно, — маленькие святые, «играют и поют», даже на кухне осуществляя нечто священное. Это не отменяет то обстоятельство, что в произведениях Диккенса, начиная с «Оливера Твиста» (смерть товарища Оливера по приюту) и «Лавки древностей» (кончина маленькой Нелл), имеется, помимо добра, а также зла, несущего страдание детям, старикам, свое memento mori. Оно связано с образом реки, петляющей дороги, шепотом морских волн — образом скоротечности времени.
Итак, читать Диккенса — удовольствие, но не внеморальное, эстетское, как посчитал бы О.Уайлд. В Диккенсе поэзия, правда, детский взгляд на взрослые вещи, на мир, отданный Богом человеку в радость, для реализации самого лучшего, что заложено в нем, удивительным образом совмещены. И это, пожалуй, то свойство, которое всегда влекло к Диккенсу — пусть он принадлежит бытию, которое, признаемся, по природе своей максимально удалено от русского бытия, — отечественных авторов, которые по-своему мечтали об обожении этого мира. Недаром Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г. берется утверждать, что «мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как англичане, даже, может быть, со всеми оттенками». Почувствовать эту правду Диккенса дают не только его знаменитые романы, но и повесть, печатаемая в нашем издании.
На первый взгляд, «Рождественская песнь в прозе» имеет условный характер. В виде полуволшебной истории о перерождении грешника, предназначенной для праздничного представления, она как бы имеет в виду сцену, наличие на ней зримого и незримого (Дух Рождества), инсценировку перемещений во времени и пространстве (деление на акты и связывающие их интерлюдии), звуковые эффекты (бой часов, удар колокола), даже наличие ведущего (повествователя-сказочника). Соответственно, некоторые черты персонажей заострены, словно они принадлежат миру кукольного театра, пантомимы. На этот «балаганный» оттенок повествования указывает слово «carol» («песнь» в переводе Т. Озерской), обозначающее народные повествовательные куплеты духовного содержания (их русский эквивалент — колядки), которые поются под Рождество и детьми, и взрослыми.
Вместе с тем диккенсовская «Песнь» не сводима к апологии семейных радостей Рождественского праздника, а также к вариации средневековой мистерии, которая обыгрывает ряд ветхозаветных (история грешников, которые, покаявшись, умолили Бога продлить срок их жизни) и новозаветных сюжетов (притча о богаче и Лазаре — в отличие от евангельского богача Скрудж способен вернуться из «ада», куда с ним заглядывает его «Вергилий», и познать «рай» уже в этой жизни), возможности средневековых жанров (разговор души и тела). В этой весьма емкой, тщательно выписанной вещи неожиданно, как в особом зеркале (Диккенс любил зеркала), отражен внутренний мир самого автора, его обращенные к детству и детско-юношеским переживаниям философия и психология творчества, сам процесс того, как «проза» (в данном случае особый, не бравшийся ранее другими авторами материал, связанный с бытом, разговорным словом, материальной культурой) возвышается до лирики (гимна, песни, творчества), а «лирика» (поэтический взгляд на мир, вдохновленный переживаниями «золотого века», то есть детства) понижается до «прозы» (возможность самокарикатуры, иронического замещения детского старческим). Это необходимо для того, чтобы взрослый автор, все еще в чем-то ребенок, не выдал в себе дитя, сохранил самое святое для себя под панцирем смеха, фантастических приемов.
Итак, именно неожиданный союз в «Рождествен ской песни» колоритных исторических подробностей, зрелищности, морализма, лирики, автобиографии, смеха, фантастики, сакрализации милых сердцу бытовых деталей и привычек сделал ее глубинно народной песнью, чем-то программно традиционалистским, восходящим еще к временам «доброй, старой» и преимущественно сельской Англии, уход которой с сожалением отмечался некоторыми романтиками (В.Скоттом, Р.Саути, В.Ирвингом). Едва ли случайно, что Диккенса и в наши дни продолжают именовать в Англии творцом британского Рождества — «троицы еды, питья, молитвы», как образно выразился Г.К.Честертон, — важнейшего семейного праздника простых людей. Благодаря Диккенсу он защищен и от пуританской мрачности, несколько лицемерной общественной аскезы, и от лишенного всякой благоговейности буржуазного утилитаризма. Творческая инициатива писателя, который характерно для себя воспел гуся, «величиной с ребенка», пудинг, огонь в очаге, другие маленькие радости (фанты, жмурки, эль, танцы), как это бывает у гениев, совпала с запросом эпохи. Молодая королева Виктория под влиянием мужа (немецкого принца Альберта) добавила в 1840 г. к британскому празднованию Рождества, его непременной омеле, новые черты в виде ели, украшенной свечами и игрушками (в сороковые годы также заявили о себе хлопушки, рождественские поздравительные карточки).
Немаловажно отметить, что «Песнь в прозе» обладала и собственно литературной новизной, демонстрировала, что Диккенс способен бороться с выработанными самим собой штампами, ставить жанровые эксперименты. Им уже были освоены творческие возможности скетча, юмористического, приключенческо-авантюрного, исторического романа. Именно модель авантюрного романа стала давать у него сбой: у Диккенса туго шла работа над «Мартином Чаззлвитом», не пользовавшимся особым успехом у читателей, и в конце июня 1843 г. он был вынужден отложить его в сторону. В сентябре того же года он случайно оказался в одной из бедных школ лондонского Сэффрон-хилла. Чтото в нем при виде нищеты этого заведения и прилегающих улиц дрогнуло, и он, вспомнив, очевидно, о собственном детстве, взялся за повествование о Скрудже и написал его за три месяца, выпустив к Рождеству недорогое, ценой в пять шиллингов, элегантно оформленное издание (красная матерчатая обложка, золотой обрез, четыре цветные иллюстрации Дж.Лича, а также четыре черно-белые иллюстрации), книжку, впервые исходно выпущенную им целиком, а не по частям. При работе над ней, упоминает его друг и биограф Дж.Форстер, Диккенс наедине с собой плакал, смеялся, а также предпринимал одинокие ночные прогулки по Лондону длиною в десять — пятнадцать миль. Диккенс часто говорил о важности для себя имени главного персонажа (с человеком по имени Мозес Пиквик он трудился в «Морнинг кроникл»), которое, будучи схваченным, как магнит притягивает к себе все остальное.
Таково и говорящее имя Эбинизера Скруджа (Scrooge, от англ. глагола screw — притеснять, скряжничать, скаредничать), отталкивающего скупца-грубияна с крючковатым носом, чье имя благодаря Диккенсу стало в английском языке нарицательным обозначением скряги. Религиозно-пуританское начало в нем выродилось, стало лишь фантастическим футляром, манией зарабатывания денег, длинным перечнем того, чего он не станет делать для окружающих — всегда, в его восприятии, лентяев, попрошаек — даже если ему придется умереть. Однако выясняется, что Скрудж, сам того не зная, мертв уже при жизни, по-своему не менее призрачен (как «мертвая душа»), чем явившийся к нему в ночь под Рождество призрак его усопшего компаньона Марли. Трагикомический рассказ о человеке, который чудовищно скуп, не подает милостыню, живет в холодном как гроб жилище, скован «цепями» бесплодно прожитой жизни, притесняет своего безропотного работника Боба Крэтчита, отталкивает любящего его племянника, а также имеет возможность благодаря трем Духам Рождества путешествовать во времени и обозревать сквозь таинственные «окна» в нем прошлое, настоящее (сцены встречи Рождества в доме Крэтчита, племянника) и даже будущее (свою бесславную кончину, продажу украденных из его дома вещей отвратительному лондонскому старьевщику старику Джо) — прежде всего миракль о чудесном спасении современного «всякого и каждого».
Открытие пустоты жизни, как обнаруживается в финале, скорее всего, приходит к Скруджу во сне. Под бой часов, который растягивает у спящего один день до целого века, он способен преодолевать необратимость человеческой жизни, летать над сушей и морем, говорить с живыми и мертвыми, смешивать между собой реальность и фантазию. Именно во сне Скрудж открывает, что его прежнее существование из-за желания разбогатеть постепенно стало бесплодным, что он спящий, мертвый человек еще в этой жизни, хотя поначалу имел дар стать другим. И вот Скрудж под впечатлением увиденного просыпается, отбрасывает маски лжежизни, чтобы из малопривлекательной балаганной «куклы» стать человеком и надеяться на новую, вечную жизнь, творя добрые дела. Что же спасает Скруджа? Ответ рассказчика очевиден — прежде всего это Божья милость, чуткая даже к последнему из грешников, посылающая к живому мертвецу вестника с «того света». Но Скруджа также спасает святость личных воспоминаний — отзвуки во взрослой жизни неумолкающей мелодии «рая»: детства, юности, дорогих утрат. Побег (полет) в детство для Скруджа спасителен, он начинает плакать.
И становится из противника Рождества, замкнутого в себе пуританина из пуритан соборным, радостным человеком. Начавшись с упоминания о смерти, «сне» Марли («старик Марли был мертв, как гвоздь в притолоке»), повесть завершается обетованием восстания из мертвых, жизни. Уходит холод (скупо отапливаемая контора, дом-гроб, ледяное сердце, кончина малютки Тима), приходит тепло, огонь очага, семейной любви. Уходит одиночество, замкнутость города, приходит вся Англия, открытая в поля, — сам корабль, плывущий под свет маяка вперед.
Лиризм, привнесенный Диккенсом в изображение Скруджа, дает ощутить, что в этот образ писатель по каким-то причинам вложил немало личного. Здесь и чтение тех сказок, которые он сам читал в детстве, и чэтемская школа, и явление умершей сестры, и первая лондонская квартира, и служба в конторе писцом, и встреча с тремя сестрами Хогарт. О чем может говорить такое возвращение в детство, такое соединение несоединимого? И почему Скрудж, в отличие от Диккенса, не имеет жены, детей?
Оставляя в стороне тему отношений писателя с женой, выскажем предположение, что Скрудж (стоящий за ним повествователь-постановщик) не только марионетка, персонаж во всем предсказуемый, но и творец роли. Он, иначе говоря, и традиционный персонаж пантомимы, и личность, которой открыто то, чего не знают, не видят другие. Тема «погребенной» и затем спасенной жизни, развиваемая Диккенсом, позволяет увидеть за маской скупца писателя, перерабатывающего свои воспоминания. Всё копится в «лавке древностей» у этого скряги, находится на своих местах, «молчит», «спит», и всё одновременно щедро просится наружу — желает говорить разными языками, расцветиться разными красками. «Взгляни на дом свой, ангел», — мог бы сказать Скрудж словами поэмы Дж.Милтона; узнай в окружающей жизни, ее, казалось бы, мелочах глубину, вечность, – узнай об утекании жизни (ход времени напоминает о себе у Диккенса сменами картин, ударами колокола, мотивом смерти любимых) и, помимо веры, противопоставь смерти память, детство, детское творчество.
Так становятся возможны диалоги с самим собой. Скрудж словно беседует со своими прежними «тенями», призраками «утраченной жизни» — «персонажами» пьесы о самом себе. И эти воспоминания, заработав, ожив, «зазвенев» в его сознании, спасают его! Иными словами, разыгрывая свою жизнь на сцене, Скрудж, вместо того чтобы «истечь клюквенным соком» и остаться куклой, получает шанс спасения. Диккенсу в момент написания «Рождественской песни» 31 год, он переживает определенный творческий кризис, но надеется как писатель на лучшие времена. Диккенс не был обманут. Таков по-своему и Скрудж. Он не так стар, как кажется. Насколько можно судить по косвенным указаниям, Скруджу около 43 лет. И он, таинственно приобщившись к подлинности бытия, познав именно в Рождество (а это символично), что такое ложь, смерть, рвет цепи старого (ими опутан призрак Марли), чтобы стать наконец «самим собой» — веселым, добродетельным холостяком, способным, по дару Божьему, переписать книгу своей жизни.
Нам не представить Коробочку, расстающуюся со своим имуществом. Едва ли и Башмачкин отречется от своей шинели, создаст ей гимн в поэзии или прозе. Диккенсовский же Скрудж, исходно мертвая душа, затем-таки отбрасывает свою гротескную личину и спасается, приобретая человеческое лицо. Совпадение это или нет, но фонетически английские слова «скряга» (scrooge) и «писец», «переписчик», «книжник» (scribe, scrivener, scribbler) стоят рядом.
Итак, и Диккенс, и Скрудж — парадоксальное, смеховое «другое я» писателя — обладают общей чертой. Оба обостренно переживают ход времени, оба открывают в жизни поединок смерти и любви, темноты и света, скупости и щедрости, а также наличие в этом мире тех таинственных посланий, которые способна воспринять и донести до других только творческая личность. Именно диккенсовская вера во всесилие творчества позволяет увидеть в «Рождественской песни в прозе» не только назидательную волшебную историю или полемику с кальвинистской идеей предопределения, но и романтическую притчу о силе искусства, которому при надлежащей борьбе художника с самим собой подвластно (в виде «прозы») даже Рождество.
В.М.Толмачёв