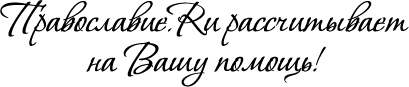Появление введения в агиографию, которое бы адекватно отражало современное состояние этой научной дисциплины, было бы сейчас особенно желательно. В свете этого портал предлагает читателю знакомство с рецензиями двух работ, которые могли бы стать таким введением: «Агиология. Курс лекций» Е.Н. Никулиной и «Введение в критическую агиографию» В.М. Лурье. Рецензент – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИВИ РАН Виноградов А.Ю. Расширенный вариант рецензии выйдет в «Богословских трудах», том 43.
Агиография — тема, поистине болезненная для отечественной науки, где после расцвета на рубеже XIX-XX веков она оказалась в почти полном забвении в советский период. Сегодня наблюдается несомненный рост интереса к ней, однако агиографические исследования остаются достаточно разрозненными, отсутствует и необходимая русскоязычная справочная (не считая базы данных «Источники русской агиографии», находящейся в процессе создания[1], и некоторых работ О. В. Творогова)[2] и учебная литература. В этом смысле появление введения в агиографию, адекватно отражающего современное состояние этой научной дисциплины, было бы, несомненно, desideratum для отечественного читателя. В последнее время появились сразу две работы, претендующие на то, чтобы стать таким введением: выпущенный издательством ПСТГУ курс лекций Е.Н. Никулиной по предмету «Агиология», а также опубликованная издательством AXIOMA книга В.М. Лурье «Введение в критическую агиографию». В настоящей рецензии рассматриваются оба эти издания.
Никулина Е. Н. Агиология. Курс лекций. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008
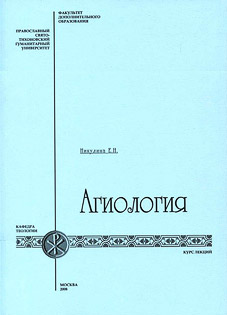 |
Автор понимает свой предмет, агиологию, как «богословскую дисциплину, изучающую жития святых с целью установления типов святости» — в отличие от агиографии, «изучающей жития святых как памятники духовной литературы той эпохи, когда они создавались» (с. 6). Оставляя в стороне дискуссию о соотношении данных терминов, заметим, что, во-первых, и агиология, и агиография изучают не только жития святых, но и другие агиографические и неагиографические тексты, а во-вторых, предметом агиологии является все же понятие святости вообще, не только в пределах агиографического жанра.
В согласии со своей концепцией, автор помимо вводной главы последовательно рассказывает о «типах» святых: апостолах и равноапостольных (тема 2), мучениках (4), святителях (5), святости в миру: благоверных, юродивых, праведных (6). Завершается книга разделом «Материалы по теме «Святость как норма христианской жизни (пути к святости в современном мире)». По большей части, повествование Никулиной сводится к пересказу житий святых, вводимому теоретическим предисловием. Однако демонстрируемый автором уровень знаний об обстоятельствах жизни и подвига того или иного святого в отдельности всякий раз настолько низок, что это ставит под вопрос обоснованность ее обобщений и теоретических выводов.
Разберем несколько конкретных примеров.
«Раздел 1.6. Источники сведений о святых. Четьи-Минеи». Автор начинает его так: «Сведения о житиях и характере подвига сонма православных святых содержатся в целом ряде источников. Это Богослужебные минеи, Четьи-Минеи, месяцесловы, прологи или синаксари, святцы и др.» (с. 22). Уже здесь видно, что Никулина абсолютно не понимает, что такое агиографический источник. На самом деле, источниками являются не сборники, перечисляемые ею, а отдельные тексты: мученичества, жития, чудеса и т.п. Это не случайная ошибка: по ходу своего изложения собственно к первоисточникам автор практически никогда и не обращается.
В главе 2 читатель с интересом узнает, что в «конце VIII в.» был «разгар иконоборчества». В действительности, в период с 787 по 815 гг. иконоборчество в Византии находилось под запретом. Этим периодом Никулина датирует письмо прп. Феодора Студита некоему Платону. При этом в тексте нет ни ссылки на издание, ни хотя бы номера письма; самое поразительное, что автор книги, посвященной святым, никак не упоминает того факта, что адресат упомянутого письма — также святой, прп. Платон Саккудийский.
Читаем дальше. Оказывается, прп. Симеоном Метафрастом были «переработаны и отчасти сокращены многие из остальных 539 повествований». Откуда взяты эти сведения, не известные даже А. Эрхарду и С. Хёгелю, авторам подробнейших исследований о Метафрасте. На чем основано число 539, если Метафраст писал по одному житию на каждый день года?
Другой случайно выбранный пример — рассказы автора об апостолах (с. 42-53). Например, «источниками» сведений об ап. Павле Никулина считает «Библейскую энциклопедию» архим. Никифора и работы свящ. Константина Польскова и архиеп. Аверкия (Таушева) — а вовсе не новозаветные Деяния апостолов, Послания ап. Павла, творения церковных авторов II-III вв., апокрифические «Деяния Павла» и т. п. Говоря об ап. Андрее, автор, пересказав новозаветную историю, сразу переходит к рассказу о его путешествии на Русь — и не говорит ни слова ни о его проповеди в Малой Азии, ни о предании об основании Константинопольской кафедры, и т. д. Повествуя об ап. Фоме, Никулина, не указывая источник своих сведений, описывает его проповедь в Восточной Индии — хотя сама же дальше говорит о Малабаре, который, вообще-то, расположен на юго-западном берегу Индийского полуострова. Некритически сведя воедино все сведения об ап. Симоне Кананите (так что бедный студент должен недоумевать, где все-таки проповедовал апостол: в Африке, в Британии или в Персии), автор забывает упомянуть самую близкую нам традицию — предание о его проповеди в Абхазии.
Еще один пример. Прп. Исаак Сирин (с. 165-166), как утверждает Никулина, родился «в Бет-Катрайя (на границе Индии)», хотя на самом деле Бет-Катрайя — это современный Катар, и расположен он отнюдь не на границе Индии. Непонятно что конкретно имеет в виду автор, утверждая, что святой «формально принадлежал к несторианской церкви», когда «в течение пяти месяцев был епископом Ниневии». Но даже эти погрешности были бы простительны, если бы Никулина хотя бы дала ссылку на какой-либо научный труд о прп. Исааке — например, на книгу митр. Илариона (Алфеева). Вместо этого изложение о прп. Исааке построено на цитатах из книги А. И. Сидорова о блж. Феодорите Киррском (!).
Число подобных примеров, которые лишают книгу Никулиной всякой ценности и, более того, даже делают ее источником заблуждений, можно умножать до бесконечности. Нам остается лишь отметить, что основные репутационные потери от тиражирования этого и подобных «курсов лекций» несет ПСТГУ, имя которого стоит на титуле книги. Автору рецензии, который на протяжении многих лет читал на Богословском факультете того же ПСТГУ курс истории византийской агиографии, это особенно обидно.
Лурье В. М. Введение в критическую агиографию. СПб.: Аксиома, 2009
 |
Однако знакомство уже с самыми первыми страницами книги Лурье лишает читателя всякой надежды обрести в ее лице верного проводника в мир агиографической литературы. Не зря книга озаглавлена как «Введение в критическую агиографию» (а не агиографию вообще). Как очень скоро выясняется, под «критической» агиографией автор книги понимает вовсе не болландистский подход к научному изучению агиографических источников, аналогичный, например, библейской критике, но нечто совершенно иное — поиск скрытых смыслов и намеков в различных памятниках, так или иначе связанных со святыми и святынями (и не только). Именно подобная деконструкция источника, а отнюдь не его анализ с позиций различных «критик» (в первую очередь — текстологической) и будет подаваться Лурье в качестве «критической» агиографии. В ходе чтения книги выясняются и особенности авторского метода работы с источниками, которые связаны с тем, что он, по-видимому, никогда не контактировал с древними текстами напрямую, т. е. не работал с рукописями, не выпускал критических изданий и т. п.
Характерно, что, отсылая за «матчастью» агиографии («библиографией справочной литературы и изданий») к книге Рене Эгрена (с. 12), автор почему-то игнорирует вторую часть названия этой книги — Ses méthodes. Действительно, разнообразие методов научной агиографии автору выгоднее оставить за скобками — говоря о методологии, из предшествующих специалистов он ссылается только на о. Ипполита Деле и на разрозненные идеи о. Мишеля Ван Эсбрука. А еще ниже выяснится, что автор почти полностью игнорирует «классические» методы агиографии, предпочитая им свои собственные, якобы являющиеся развитием идей Деле и Ван Эсбрука. Автор вообще сводит всю «критическую агиографию» к линии преемства Деле - Петерс - Ван Эсбрук - Лурье. К концу книги становится уже совершенно очевидным, что бóльшая ее часть (начиная со с. 71) представляет собой описание «методов», придуманных самим автором и не имеющих отношения к методологии болландистов. С этой точки зрения довольно странно звучат слова автора о том, что он описывает новую теорию критической агиографии «вместо Ван Эсбрука»: нам верится с трудом, что бельгийский исследователь, если бы он еще был жив, вполне согласился бы с методами, описанными в частях 3-7 рассматриваемой книги[3]. А ведь именно в этих методах и их применении и заключается raison d'être всего труда Лурье. Кроме того — при всем уважении к Ван Эсбруку как знатоку и публикатору восточных рукописей, с которым посчастливилось сотрудничать и автору настоящей рецензии, — хорошо известно, что работы Ван Эсбрука полны фактических ошибок и (зачастую основанных на них) слишком вольных интерпретаций, а если уж от чего и далеки, так это от строгой методологии. Поэтому попытка прикрыться авторитетом великого бельгийца является у Лурье во многом «псевдо-эпиграфом» — аналогично тому, как и его «критическая агиография» в целом значительно отличается от аналогичной дисциплины болландистов.
Забегая вперед, скажу, что данная книга для интересующегося агиографией будет не только не полезна, но и вредна, поскольку создаст о ней ложное представление. Поэтому мы сочли необходимым последовательно, согласно порядку подачи материала в самой книге, разобрать ее основные положения.
Часть 1: Критическая агиография накануне своего четырехсотлетия
Книгу открывает историографический обзор. Это - наиболее адекватная реальности часть книги. Но уже здесь, как мы увидим, вполне проявляются особенности авторского подхода.
После рассказа об Обществе болландистов и его проектах (§ 1.1)[4] Лурье пространно говорит о Германе Узенере и его школе (§ 1.2), однако не только не упоминает о большой и важной их деятельности по изданию текстов и их классификации[5], но даже не называет по имени ни одного из учеников Узенера. Отсюда можно заключить, что автора интересует не подлинная история агиографии, а борьба «титанов» методологии.
В § 1.3 автор сужает перспективу и описывает «критическую агиографию» Деле как единственную научную альтернативу методике Узенера, забывая при этом о существовании в то же время, на рубеже XIX-XX веков, других путей. Приведем в пример Густава Анриха, который, как он сам признавался, начинал свою работу над текстами о свт. Николае Мирликийском вполне в духе школы Узенера (поиск доказательств замещения локального культа Артемиды культом святого), а закончил созданием классического и не превзойденного впоследствии исследования по столь сложной теме, одинаково далекого при этом и от методики Деле[6].
Деление агиографических памятников на historiques и épiques (§ 1.4), которое Деле, если верить автору, был готов с необходимыми изменениями распространить не только на мученичества, но и на жития и другие тексты, в действительности, не может быть последовательно проведено. Для житий и перенесений мощей оно вполне возможно, но уже, к примеру, для чудес оно весьма затруднительно, а для таких жанров, как апокрифические деяния апостолов, - вообще бессмысленно. Автор также не упоминает о том, что наиболее авторитетный и общепризнанный корпус passions historiques специально собран и прокомментирован Хербертом Музурилло[7].
В § 1.4.1 читатель впервые встречается с ключевым приемом автора - неоправданным обобщением. Здесь автор утверждает, что «агиографа [т.е. автора агиографического текста - А. В.] абсолютная хронология не интересует», так как в мученичествах редко встречается датировка смерти святого по году в сравнении с датировкой по числу месяца. Но это обобщение неверно, поскольку в действительности реальные датировки часто встречаются в мученичествах (и, кроме того, являются одним из признаков passions historiques). Более того, датировка по году даже порождает специфически агиографическую формулу клаузулы «в царствование такого-то императора, в царствование же над нами Господа Иисуса Христа». Пример автора с агиографическим помещением в эпоху Деция или Диоклетиана документально не датированных мученичеств - это, наоборот, свидетельство интереса к абсолютной хронологии и попытка поиска места святого в ней (конечно, интереса, обусловленного во многом канонами жанра, который требовал создания исторической достоверности).
Непонятна и интерпретация автором мифа как чего-то обязательно доисторического в приложении к греко-римскому миру. Напротив, наиболее активно там культивировались мифы о богах и героях, связанные с происхождением городов, святилищ и родов, т. е. максимально укорененные в исторической почве. В этом аспекте некорректно противопоставлять миф и эпос. Для античности эпос - лишь одна из форм трансляции мифа.
В § 1.4.2 Лурье впервые применяет свое любимое сравнение агиографических текстов со СМИ: основанием для этого служит, очевидно, идеологическая составляющая обоих жанров. Однако использование СМИ в качестве инструмента донесения идеологических интенций до масс характерно, прежде всего, для тоталитарных государств, в то время как изначальная цель СМИ - передача новостей, предполагающая адекватность случившемуся, а это для агиографии конституирующим признаком не является. Таким образом, автор невольно воспроизводит парадигму тоталитарного государства, в котором он сформировался как личность.
Чем дальше автор уходит от изложения идей Деле к своим собственным (§ 1.4.3), тем больше начинает запутывать читателя. Оказывается, что для «житий мучеников»[8] «в высшей степени характерны как бы (курсив мой - А. В.) протокольные записи их допросов». В отношении passions historiques непонятны слова «как бы», поскольку passions historiques, вообще-то, на таких именно записях и основаны. Действительно, автор в дальнейшем рассматривает почти исключительно «эпические» тексты, но никак не оговаривает этого, отчего у читателя создается неверное впечатление, что в процитированной фразе речь идет обо всей агиографии вообще.
Здесь же мы знакомимся еще с одним излюбленным приемом автора - необдуманными аналогиями из других жанров литературы и из других наук. В данном случае Лурье сравнивает фиктивные диалоги в passions épiques c диалогами, сочиненными авторами мемуаров. Однако аналогия эта бессмысленна, поскольку в последнем случае речь идет о том, чему автор был заведомо свидетелем, даже если и передает сам диалог своими словами, в то время как в первом случае они передают не то, что было, но то, что, в лучшем случае, могло бы быть. Характерно, что эта бьющая мимо цели аналогия - единственное, что автор имеет сказать относительно столь важной проблемы соотношения двух видов мученичеств - остальное должны, видимо, описать особые правила, которые он сам придумал.
В § 1.5 автор называет о. Поля Петерса «первым, кто смог описать пути движения агиографических текстов на христианском Востоке». Отдавая должное Петерсу, нужно все же заметить, что это не так[9]. Также сомнительно отнесение к теоретическим (относительно преодоления текстами межъязыковых барьеров) работы Бернара Флюзена, посвященной двум переводам жития прп. Иоанна Дамаскина. Здесь скорее было бы уместно указание на многие места, например, следующей работы: Berschin W. Griechisch-lateinisches Mittelalter: von Hieronymus zu Nikolaus von Kues. Bern, München, 1980. Удивительно и молчание автора о многих современных исследованиях - например, о фундаментальной книге: Pratsch T. Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in mittelbyzantinischer Zeit (Millennium-Studien, 6). Berlin, New York, 2005. Приходится предположить, что классическое понятие «агиографического топоса» кажется автору устаревшим в рамках инструментария его «критической агиографии».
Любопытно, что среди корифеев агиографии автор не забывает незаметно упомянуть и самого себя. В рецензируемой книге мы вновь видим тот же прием, который активно использовался Лурье в его «Истории византийской философии»: представлять в качестве самоочевидных, вполне обоснованных и всеми признанных разные нетривиальные идеи, которые сопровождаются, на самом деле, ссылками лишь на статьи самого же Лурье (см., например, с. 40, 47, 55, 126). Причем среди этих идей - и такие ключевые для всей его системы, как, например, дохристианское происхождение христианской агиографии.
Подводя итог, можно констатировать, что первая часть книги (еще раз повторимся, наиболее адекватная реальности) представляет собой не только беглый и поверхностный, но и, что важнее, достаточно тенденциозный обзор истории агиографической науки. Тенденциозен он потому, что автор предпочитает говорить о близких ему авторах, работах и научных концепциях, обходя молчанием остальные. В частности, автор полностью пренебрегает немецкой агиографической наукой ХХ века[10]: так, опущено имя, без которого научная работа по восточной агиографии в принципе невозможна - Альберт Эрхард, впервые выявивший принципы функционирования агиографических сборников, чьи исследования привели к радикальной реформе болландистских справочников. Но Лурье пренебрегает не только немцами- почему-то пропущено и имя главного болландиста-грециста о. Франсуа Алкена, которого наивно было бы воспринимать только лишь в качестве плодовитого издателя: он сделал крайне много для систематизации агиографических жанров и классификации редакций различных текстов, а также для изучения некоторых особых жанров (например, агиографических надписей). Видимо, эти исследователи кажутся нашему автору слишком рационалистичными и сковывающими полет агиографической мысли. Заметим также, что даже и в формально нейтральную историографическую часть книги автор сумел инкорпорировать и свои собственные идеи, не удосужившись подкрепить их научными доказательствами вместо произвольных аналогий.
Часть 2: Агиографический язык и агиографический текст
§ 2.1. Ключевой для всей книги и, особенно, второй ее части является убежденность автора в непременной связи агиографического текста с культом. Между тем, последняя может порой и отсутствовать, например, в частом случае стилистического rewriting, т. е. агиографической переработки[11]. Другой пример отсутствия такой связи - «монашеские романы», имеющие характер нравственной притчи, не предполагающие никакого культа святого и зачастую даже не указывающие место его кончины и погребения[12]. Таким образом, несостоятельным оказывается и тезис автора об агиографическом документе как всяком документе, связанном с соответствующим культом; он ошибочен также и потому, что мешает разграничивать агиографические и литургические тексты (см. ниже).
Другая крайность, в которую впадает автор и которая противоположна стремлению видеть самостоятельный текст в каждой рукописи, - это признание в качестве агиографического лишь «идеального», т. е. первоначального текста. Такой подход ведет к игнорированию редакций «идеального» текста, которые зачастую и отражают эволюцию культа. А ведь такая редакция зачастую бывает представлена одной-единственной рукописью.
Автор заявляет об отсутствии справочника по славянской агиографии или ее части, хотя именно этой теме посвящен обстоятельный справочник болгарской исследовательницы Климентины Ивановой[13], выход которого был анонсирован достаточно давно. Укажем также и на изданный О. В. Твороговым каталог русской переводной агиографии[14].
В § 2.2 автор даже не удосужился сообщить читателю, что приводимая им классификация агиографической литературы придумана им самим - равно как и отметить, что ее категории «по предмету почитания» и «по сюжету» практически идентичны, что ставит вопрос о необходимости двух классификаций, а не одной, как у болландистов.
В § 2.2.1 мы впервые сталкиваемся с любимой идеей автора о происхождении почти всех аспектов христианства из религии древних иудеев. В частности, мы узнаем о преемстве раннего христианства с «ветхозаветной Церковью» (в другом месте пишется иначе: «Ветхозаветная Церковь»). Что имеет в виду автор: мистический прообраз христианской Церкви, общину вокруг Иерусалимского храма (или также вокруг Гелиопольского?), религию диаспоры? Ведь никакого институционального - и, тем более, агиографического - единства в иудаизме рубежа эр, как хорошо известно, не было.
Отсюда же происходит и априорный тезис автора об Иерусалимском храме как прообразе «любого христианского храма». Можно, конечно, говорить о таком прообразе для некоторого (пусть и очень небольшого) числа конкретных христианских памятников или о влиянии ветхозаветных текстов на символические толкования христианского храма вообще, но реального влияния на постройку каждого отдельного христианского храма Иерусалимский храм, несомненно, не имел (см. также ниже).
В § 2.2.2 читателя ждет такая жанровая классификация агиографических памятников, которая является, как минимум, спорной. Автор применяет термин «жития» к категории агиографических текстов, имеющих своим объектом святого. В действительности, «житие» - это название лишь одного типа памятников из этой группы, а именно описания всей жизни святого, а не только последней ее части, как в мученичестве (заметим, что эту же ошибку мы встретили и в книге Никулиной).
В свою очередь, выбранный автором нетипичный пример стихотворного агиографического «жития» - «Поминальная драпа св. Олафа» - может создать у читателя ошибочное представление о позднем и периферийном происхождении этого жанра. На самом деле, первый памятник такого рода (а также одно из первых житий вообще и заведомо древнейшее епископское житие), был составлен еще в сер. IV в. свт. Трифиллием Ледрским и посвящен свт. Спиридону Тримифунтскому.
Описывая жанр «чудес», автор не упоминает удобного терминологического различия между чудом прижизненным (praxis) и посмертным (thauma или miraculum), которое используют многие исследователи, в т. ч. и болландисты.
Категория «идеологических текстов на освящение храма», и так крайне малочисленная и периферийная, попадает у Лурье в разряд агиографических памятников, прежде всего, благодаря его ложному определению последних (см. выше).
Немного ниже, разграничивая в § 2.3 агиографические и литургические тексты, автор почему-то не упоминает о жанрах панегирика и синаксаря, которые равно принадлежат обеим литературам. Эта двойственность, действительно, сильно мешает при классификации текстов: так, Алкен включал в BHG только те синаксари, которые бытуют в виде отдельных текстов, вне синаксаря как сборника. В любом случае, текст Лурье нисколько не помогает читателю осознать специфику этих жанров.
§ 2.4 имеет скорее идеологический характер. Суть представленной здесь идеологии можно сформулировать довольно просто: Лурье требует отказаться от представления Деле о неисторичности passions épiques, чтобы получить возможность беспрепятственно искать в них какую угодно историческую подоплеку. В защиту своего подхода автор прибегает к сравнению, но оно оказывается не в его пользу: если «агиографическое литературоведение» Деле выглядит вполне нормально, так как агиография есть литература и, соответственно, должна изучаться в ее рамках, то «агиографическая лингвистика» Лурье - не более чем метафора (ибо предмет лингвистики и агиографической науки - совершенно разный и требует, соответственно, разного научного аппарата), используемая для прикрытия методологического произвола.
В § 2.5 автор переходит от сравнения уже к довольно-таки бесцеремонному разбирательству с Деле. У последнего, якобы, открывается «разочарованность однообразием эпических мученичеств» - как будто passions historiques более разнообразны (в действительности, passions épiques на фоне passions historiques - просто шедевры фантазии). Далее автор обещает показать, что, вопреки собственным словам, Деле считал свой подход ложным, - ниже, однако, оказывается, что это следует лишь из «напрасного» (т. е. не согласующегося с концепцией Лурье) согласия болландиста с Узенером, в то время как никаких свидетельств собственно Деле, конечно же, не приводится[15].
Наконец, автор покушается и на классический тезис о происхождении passions épiques не ранее IV в. При этом он забывает опровергнуть главную основу этого тезиса - их подражание «историческим мученичествам», а ведь сделать это не так просто, ибо обе половины жанра мученичеств обладают слишком большим набором общих черт, причем в случае passions historiques их происхождение имеет вполне историческое обоснование (связанное, прежде всего, с единообразием римской судебной системы и ее протокола). Вместо этого предлагается тезис об иудейской генеалогии «эпических мученичеств» (впрочем, в устах Лурье этим термином, как выясняется, называются почти любые агиографические тексты о святых, кроме «исторических»). Тезис этот подкрепляется единственным примером, причем как раз не из жанра мученичеств, - легендой о явлении Креста на небе над Иерусалимом. Но и его связь с иудео-христианскими и иудейскими преданиями - это лишь гипотезы Ван Эсбрука и И. Боргенхаммара, но никак не общепризнанные факты, позволяющие строить целую теорию. Кроме того, не доказав генетической несвязанности passions historiques и épiques, автор сам заманил себя в ловушку: теперь он должен будет доказывать иудейское происхождение passions historiques, для чего простой отсылки к мученикам Маккавейским будет явно недостаточно.
В заключение автор предвосхищает еще один свой поразительный вывод: «passions épiques - повествования не столько о святых, сколько о святынях». Между тем, главной особенностью «эпической агиографии» является как раз ее свобода от соотнесения с реальностью, которая часто оборачивается отсутствием связи и с реальным культом святого. Это характерная черта т. н. «монашеских романов» и многих собственно мученичеств: даже если там и указано место кончины святого, зачастую нет никаких реальных исторических свидетельств культа в соответствующем месте (так обстоит дело, например, с мученичествами свв. Екатерины, Евгении и многих др.).
§ 2.6, пожалуй, наиболее адекватен реальности из всей второй части книги, но и здесь автор предпочитает гипотезы фактам. Так, например, смысл древнерусской легенды о просвещении Руси ап. Андреем автор толкует как церковное подчинение Киева Константинополю, минуя Херсонес. На самом деле, Херсонес (никогда, кстати, не бывший митрополией Руси) в этом предании как раз является исходной точкой путешествия апостола на Русь, а сама легенда обретает смысл только в своем летописном контексте - описания пути «из варяг в греки», на основе которого она и составлена.
Впрочем, даже из сравнительно вменяемого материала автор делает парадоксальный по своей наивности вывод, утверждая, что реальную жизнь агиографических легенд определяет «только их символический смысл». На самом деле, ее определяет совокупность большого количества различных факторов. Так, например, выживанию сюжета мученичества свв. Феодоты и Кириака помог не его символический смысл, а случайное знакомство с ним автора «Мученичества св. Анастасии Узорешительницы» (BHG 81); в параллельном случае мученичества свв. Агапии, Хионии и Ирины выживание первоначального текста мученичества (BHG 34) - также чистая случайность, ибо сохранился он только в одной-единственной рукописи.
Не менее наивно представление автора о конкуренции агиографических документов как о конкуренции культов. Во-первых, вопреки Лурье, такая конкуренция развивается главным образом между различными текстами об одном святом и определяется в основном, как отлично показал Эрхард, литературными качествами этих текстов, а не разными культами. Во-вторых, даже в случае разных святых эта конкуренция может объясняться теми же литературными причинами: например, вышеупомянутое «Мученичество Анастасии Узорешительницы» вытеснило ряд других мученичеств не в силу вытеснения или поглощения культа соответствующих святых культом св. Анастасии, но в силу большей художественной притягательности версии, изложенной в ее мученичестве.
Развиваемая в § 2.8 мысль об агиографии как о рупоре Церкви не нова: особенно хорошо она разработана в отношении иконопочитательской агиографии. Однако уподобление агиографических памятников СМИ и малоосновательно (см. выше), и малорезультативно, так как первые функционируют совершенно не так, как вторые, и сталкиваемся мы с распространением и бытованием агиографических памятников обычно через много столетий после их создания, когда культовая актуальность и новизна давно не являлись их главным достоинством.
В этом же § 2.8 автор уже привычно иллюстрирует тезис об «агиографическом субстрате» не фактами, а гипотезами - Ван Эсбрука и своими. Субстрат этот, судя по мысли автора, всегда лежит не на поверхности, иначе его бы увидел любой, а это для Лурье, вероятно, неприемлемо. При этом автор свято убежден в обязательном наличии «субстрата» (следует читать: неочевидного смысла) в любом тексте. Свое убеждение он основывает на собственном же тезисе о связи каждого агиографического текста с культом и, соответственно, о необходимости трансляции культа через текст. Однако поскольку данный тезис является ложным (см. выше), то ошибочен и основанный на нем из него вывод. Характерно, что для иллюстрации своего убеждения автор отыскивает лишь гипотезу о христианизации хазар в IX в. по абхазскому образцу VI в., где нет, однако, связи ни с каким (по крайней мере, сколько-либо важным для агиографа) культом, а речь идет просто об историческом подтексте.
В § 2.9 автор демонстрирует, как можно усмотреть желанный «агиографический субстрат», в том числе, и там, где существует более простая интерпретация. Очевидно, что обилие ветхозаветных образов в Слове Иоанна Иерусалимского на освящение Сионской базилики объясняется значением того же места в ветхозаветный период. Причем это очевидно настолько, что непонятно, зачем вообще нужен здесь «субстрат». Идеологическое же объяснение исчезновения этого Слова из греческой традиции намного менее вероятно, чем более простые альтернативы: или Слово могли просто перестать переписывать в силу его сложности для понимания (как это происходило со многими другими памятниками), или оно могло исчезнуть в контексте общей гибели грекоязычной традиции древней Иерусалимской Церкви (что, собственно, и произошло с древним иерусалимским Евхологием и т. д.).
То же самое относится и к случаям влияния на агиографию других литературных жанров. В подобных случаях термин «субстрат» еще менее удачен, так как, например, в «Мученичестве свв. Кирика и Иулиты», составленном императрицей Евдокией, светская струя касается только внешнего оформления памятника, но не его содержания.
Чтобы найти что-то по-настоящему «субстратное», демонстрируется непростой трюк: из предположения о видении Вахтангу Горгасалу в VI в. (автор благоразумно умалчивает о том, что сам текст относится к XI в.) как параллели к видению Евстафию Плакиде делается вывод о «Мученичестве св. Евстафия Плакиды» как специально созданном Византией для Грузии зашифрованном предложении о принятии христианства - классическая reductio ad absurdum.
§ 2.10 состоит из двух половин. В первой автор, демонстрируя метод работы придуманной им науки, пересказывает свою собственную статью, сопровождая пересказ (видимо, для солидности) отсылкой к работам Баумштарка. Во второй он рассказывает общеизвестные вещи о значении этнокультурной среды памятника - приводя, однако, вместо какого-либо очевидного примера далеко не бесспорную и весьма гипотетичную работу С. Михеева (что, видимо, следует понимать как «product placement» в отношении члена редколлегии издаваемого Лурье журнала «Scrinium»).
В § 2.11, в отличие от предыдущих разделов, где автором либо описывались мнимые или гипотетические сущности, либо изобретались новые слова для хорошо известных, затрагивается действительно актуальная проблема - вопрос о происхождении христианской агиографии. Впрочем, на этот вопрос автор уже ответил выше: христианская агиография появилась до возникновения христианства (нам этот ответ представляется в корне ошибочным). Поэтому автору только одно: пояснить, зачем агиография понадобилась самому христианству. Здесь автор также оказывается скован своей презумптивной гипотезой об иудейском происхождении христианской агиографической литературы - последняя оказывается таким же дополнением (или «проекцией») к Евангелиям, каким, в свою очередь, якобы были - к Ветхому Завету - иудейская агиография и Евангелия. Доказать этот тезис примерами автор даже и не пытается. В итоге получается фантастическая картина: если верить Лурье, христианам была нужна агиография именно в своих специфических формах (т. е. в не виде действительно ранних форм, например, passions historiques, а виде passions épiques, реально засвидетельствованных только с IV в.) по той причине, что они понимали ее как проекцию Евангелий, которые, в свою очередь, они должны были воспринимать как разновидность иудейской агиографии - матери-матрицы христианской. Нам остается только заметить, что в самóй древней христианской литературе этому нет никаких подтверждений.
Подведем итог нашему знакомству со второй частью книги Лурье. Собственные идеи автора относительно устройства агиографического текста сводятся к трем недоказанным положениям: 1) агиография всегда связана с культом; 2) у агиографического текста обязательно есть «агиографический субстрат», нуждающийся в дешифровке; 3) христианская агиография (подразумевается «эпическая») произошла из иудейской. Если подвергнуть анализу на основании трех этих пунктов большинство византийских агиографических памятников (пусть даже только «эпических»), то выяснится, что первое - необязательно (и особенно, как раз, для «эпических текстов»), для второго нет четкого научного метода дешифровки, сопоставимого, например, с анализом разночтений, редакций, лексики и т. п., а третье - никак автором не обосновано.
Остановимся, однако, на третьей из упомянутых идей, так как лишь она одна могла бы быть воспринята в рамках агиографической науки, если была бы надлежащим образом аргументирована. Но этому препятствуют три методологических порока автора. 1) Автор отвергает теорию античного происхождения passions épiques, не удосужившись даже ее разобрать, привести современную литературу по этому вопросу и т. п. В качестве обратного примера приведем не менее революционную, чем у Лурье, книгу: Mathews T. The Clash of Gods. Princeton, 19992, где предлагается оригинальная концепция происхождения раннехристианского искусства, но только после подробного анализа альтернативных точек зрения. 2) Тезис автора строится на гипотетических (см. выше) или неверно интерпретированных примерах. Так, любимые автором Vitae prophetarum являются не источником христианской агиографии, а христианской адаптацией (причем совсем не обязательно ранней) иудейского предания - в противном случае следует показать их реальное влияние на христианскую агиографию: ведь, например, в наиболее близких им по жанру списках апостолов и учеников подобное воздействие не прослеживается. 3) Даже если какие-то примеры иудейских корней в некоторых христианских агиографических памятниках и будут доказаны, то даже это еще не будет означать иудейского происхождения христианской агиографии как таковой, ибо для этого должен быть найден авторитетный посредник - группа текстов, имеющая, с одной стороны, иудейские корни, а с другой, являющаяся истоком христианской агиографии. Автор пытается поставить на это место Евангелия, однако ему не удается ни вывести Евангелия из иудейской агиографии (вещи, самой по себе эфемерной), ни произвести агиографию как литературный жанр из Евангелий. Три этих недостатка позволяют нам сравнить разбираемый тезис автора с домом, построенным на песке.
Часть 3: Геометрия агиографической реальности: агиографические координаты
В § 3.1, изложив теорию Деле относительно агиографических координат времени и пространства, автор начинает развивать ее, разделяя эти координаты на акцентуированные и редуцированные. Ни теоретически, ни на примерах, однако, читателю не объясняется, как их между собой различать - видимо, интуитивно, как расставляют ударения в русском языке.
В § 3.2 многочисленные агиографические координаты времени редуцируются до одной единственной, интересующей Лурье, - даты памяти святого. Таким образом, автор полностью игнорирует сложнейшую проблему внутреннего времени агиографического текста, релевантную и для даты памяти святого. Кроме того, с этого момента автор начинает уходить из области агиографии, т. е. науки, изучающей тексты о святых, в область изучения календарей, подлежащей ведению хронологии и литургики. Поэтому в дальнейшем мы будем касаться только тех его выводов, которые хоть как-то связаны с агиографией в обычном понимании этого термина.
§ 3.3.1. Автор начинает с того, что навязывает каждому агиографическому тексту обязательную дату, игнорируя (возможно, в силу незнакомства с вышеупомянутым фундаментальным трудом Эрхарда) наличие большого числа неминологических сборников, для которых дата памяти святого иррелевантна.
Затем автор рассматривает процесс создания фиктивных календарных дат на довольно удачном примере - забывая, правда, пояснить при этом, что речь идет о константинопольском календаре в его состоянии на Х в. - расположения памятей шести малых пророков вблизи праздника Рождества Христова (впрочем, и здесь автор, высказывая предположение о связи памятей пророков с наличием в Константинополе частиц их мощей, не удосужился уточнить историю самих этих частиц при помощи справочной литературы). В результате анализа приводимых автором примеров у читателя может сложиться впечатление, что не только большинство отдельных памятей, но и, уж точно, комплексы однородных памятей (как в случае с малыми пророками) обязательно расположены в соответствии с тонкой богословской схемой. Однако хорошо известны и примеры простого механического создания фиктивных дат. Тот же константинопольский синаксарь, начиная с 18 января, день за днем или с небольшими интервалами (т.е. 18, 24, 25, 26, 28 января и т. д.), помещает памяти подвижников, взятых из «Истории боголюбцев» блж. Феодорита Киррского, где они не имеют никаких дат.
§ 3.3.2. Здесь мы видим еще один способ выхода за пределы агиографии: если выше всякий памятник, связанный с культом святого или святыни, определялся Лурье как агиографический, то теперь автору и вовсе достаточно лишь гипотезы о наличии в памятнике следов культа, чтобы объявить его агиографическим. Именно так обстоит дело с абсолютно чуждым агиографии по своему жанру «Ареопагитскому корпусу», вопреки тому, что по своему оформлению это псевдо-эпиграф, а по содержанию (что и определяет, прежде всего, жанр текста) - богословское сочинение.
Что же касается самого анализа «Ареопагитик», то он полностью продиктован пристрастностью автора. Но даже когда Лурье добирается до нужного ему результата[16] - темы праздника Успения 9 августа как центрального мотива этого текста, - то и тут ему приходится идти на подмену понятий. Ведь решающим аргументом для него является установление памятей свв. Дионисия Ареопагита и Иерофея Афинского на 50-й и 51-й день после Успения, однако он «забывает», что здесь в своих расчетах он уже отталкивается от Успения 15 августа, а совсем не 9-го.
§ 3.3.3. Следующий уровень «погружения» - выявление агиографии в биографии язычника. В качестве примера берется сирийский «Роман об Александре», где за образом Александра, возможно, стоит фигура императора Ираклия. Однако здесь и сам автор вынужден признать, что данный памятник, в отличие от некоторых других (почему-то не названных), не рассматривает царя-героя как святого. При чем же здесь тогда агиография? Речь здесь и в дальнейшем может, в лучшем случае, идти об агиографических источниках сирийского «Романа об Александре»[17].
В § 3.4 внимательного читателя ждет награда за его усердие: автор, наконец, проговаривается, что его дальнейшая теория строится не на вещах доказуемых и доказанных, но на «интуитивных представлениях» (с. 95).
§ 3.4.1. В рассуждениях автора о мартириях вообще и об иерусалимском Мартирии в частности - много путаницы, связанной с банальным отсутствием компетенции в области христианской археологии. Начнем с того, что храм Воскресения и Мартирий не были совсем отдельным зданиями - это была большая двухчастная постройка; кроме того, форма константиновской церкви является не фактом, а предметом реконструкций. Затем, «мысль о том, что мартирии мучеников архитектурно копируют единственный и главный Мартирий, была самоочевидной» (с. 96), пожалуй, только для Лурье: никаких ссылок, конечно, не приводится. С точностью до наоборот, в иерусалимском случае Мартирием называлась как раз базилика, а не ротонда Воскресения, тогда как с раннехристианскими мартириями, имеющими преимущественно центрическую форму, типологически должна была быть связана именно ротонда, а не Мартирий-базилика. Вообще, раннее происхождение мартириев[18] делает мысль Лурье абсурдной - знаменитый иерусалимский комплекс есть лишь одна из форм ранневизантийского мартирия, но ни в коем случае не его прототип. Но главное - в другом: автор путает происхождение феномена (и форм) мартирия с вопросом об этимологии этого термина, в результате чего его концепция получается антиисторичной.
В § 3.4.2 автор разбирает довольно удачный пример наличия нескольких мест мученичества в одном тексте (не рассмотрев при этом, впрочем, вопрос о внутренней географии агиографического текста), однако, безоглядно следуя Петерсу, попадает впросак: на самом деле, Питиунт - один из самых ранних центров христианства в Восточном Причерноморье, что убедительно доказано и археологическими раскопками[19], и присутствием местного епископа на I Вселенском Соборе[20]. Это снимает тезис о чисто фиктивном характере текста.
Затем, рассуждая о такой схеме внутри одного города, в какой можно усмотреть отсылку к практике стационального богослужения, автор не удосуживается привести ни одного агиографического примера, зато переходит к идее «переноса Иерусалима», причем без всякой связи с агиографией, хотя в агиографических текстах эта идея также встречается (например, в «Житии св. Николая Сионского» (BHG 1347)).
Наконец, автор ищет координаты в глуши, теперь в виде маршрута, «позабыв», что эти самые «агиографические координаты» должны быть у него обязательно связаны с культом, а никакого места для отправления культа приводимое им «Житие св. Павла Фивейского» не дает.
Подводя итог под третьей частью книги, можно утверждать, что изложенные здесь автором методы описания времени и пространства в агиографических текстах ничем не лучше общеизвестных способов, а лишь утруждают читателя громоздким и бесполезным наукообразным аппаратом. Нисколько не помогают они и предложенному автором расширению круга агиографических текстов. Зачем же они тогда нужны? С подлинной целью их изобретения читателю еще предстоит познакомиться - они послужат базой для еще более избыточной теории «неклассической геометрии агиографического произведения».
Часть 4: Геометрия агиографической реальности: дискретность агиографической вселенной
В четвертой части своей книги автор описывает поставленную перед собой задачу так: «Представить себе, с какого рода математическими объектами мы имеем дело в возможном мире агиографического нарратива, который нельзя описать с помощью обычных геометрических фигур» (с. 106). В этой фразе немедленно вызывают сомнения три пункта:
1) почему автор убежден в обязательном наличии в агиографическом нарративе математических объектов?
2) какой конкретный смысл он вкладывает в словосочетание «возможный мир» - внутренний ли это мир агиографического произведения или один из возможных агиографических миров Лурье?
3) на основании чего Лурье, еще не доказав сам факт наличия в агиографическом нарративе математических объектов, уже не только судит об их природе (сравнивая эти объекты с геометрическими фигурами, он очевидно намекает читателю, что ожидаемые объекты не являются, скажем, функциями или математическими группами), но и даже ожидает от них вполне конкретных свойств (а именно: «с помощью обычных геометрических фигур» эти объекты не могут быть описаны - это видимо, нужно понимать в смысле неприменимости к ним понятийного аппарата евклидовой геометрии)?
Как бы ни соблазнительно выглядела перспектива еще поиронизировать над процитированным нонсенсом, здесь мы должны остановиться и высказать свое возмущение тем, что автор имел наглость включить в число своих единомышленников даже Деле, приписав ему непременный интерес к применению теории графов в агиографии.
В § 4.1 автор огорошивает читателя еще одним парадоксальным выводом: в культе нет «того, что смысла не имеет» (с. 108). При том автор - конечно же, без всяких доказательств - считает свою позицию в отношении культа не подлежащей сомнению. Очевидно, что мы имеем дело с обычной игрой словами: смысл вещам придается в зависимости от точки зрения на них (в данном случае, с точки зрения культа); Лурье включает в куль только уже прежде значимые реалии, но не указывает при этом, кто придал им это значение, - очевидно, это сделал он сам, причем совершенно произвольно.
§ 4.2. Мысль о том, что современные сложные христианские календари развились из более простых - совершенно естественна. Однако совершенно непонятно, почему в качестве примера некоего простого архаического календаря Лурье берет не какой-либо действительно древний календарь, а календарь несториан XIX в. Таким образом, вопреки своему собственному утверждению, что история и система несторианского календаря не описаны[21], автор презумптивно считает этот календарь архаическим (а в действительности - просто выдает поздний источник за ранний). Это очень напоминает подход европейских ученых Нового времени, которые, открыв у несториан отсутствие почитания икон, поспешили объявить это наследием раннего христианства, тогда как довольно быстро выяснилось, что на самом деле культ икон у несториан существовал и исчез только к концу Средневековья.
В противоположность несторианскому календарю, остальные календари для автора не имеют «нулевого» уровня праздничности, т. е. дней без памяти. Создается впечатление, что автор непременно представляет себе календарь в виде современного пухлого ежегодника, тогда как в действительности календарь может содержаться и не в специальном документе, а быть органически включен в текст другого жанра: никто не будет отрицать наличие календаря в богослужебных книгах или минологических сборниках. При этом в последних довольно часто встречаются календари с пропусками праздничных дат, причем для наиболее ранних сборников такого типа у нас нет никакой уверенности, что они могли бы обладать текстами на все даты. А среди богослужебных памятников календарь с пропусками дат встречается, например, в Студийско-Алексиевском Типиконе, пример которого показывает, что еще и в XI в. идея «полного» календаря не была в Византии доминирующей. В целом, продемонстрированная Лурье в § 4.2 избирательность в работе с источниками, когда из их массива просто подыскиваются под заранее разработанную концепцию несколько примеров (причем с игнорированием их относительных датировок), а остальные игнорируются, уже сама по себе достаточна для того, чтобы составить представление о релевантности рассуждений автора об истории календарей объективному научному исследованию.
§ 4.3-4.4. Занятия автора иконами происходят примерно на таком же уровне, как и христианской археологией (см. выше). Единственное, что ему известно, - это работы о. Павла Флоренского и Б. Раушенбаха, которые не принимаются подавляющим большинством исследователей восточно-христианской живописи и не включаются ни в один серьезный курс истории христианского искусства.
Приведем несколько образцов некомпетености автора в области христианской иконографии: например, случай с «линейной перспективой, открытой художниками Ренессанса» (с. 113), хотя давно и хорошо известно, что византийцы знали и применяли ее, как наследие античности; колонки и драпировки на иконах, вопреки Лурье, вводятся не для маскировки стыков между планами с разной перспективой, а как символ внутреннего помещения, о чем эксплицитно говорят иконописные ерминии; только человек с большой фантазией может увидеть на иконе на рис. 1 «криволинейный престол», который в действительности, имеет форму обычной для обратной перспективы трапеции.
Вывод же автора о сходстве пространства агиографии и иконографии базируется опять лишь на бездоказательном сравнении, отягощенном непониманием самого пространства иконы и вчитыванием в него собственных идей.
§ 4.5. Еще одна аналогия между агиографией и иконографией видится автору в том, что обе они концентрируются на положении человека, т. е. читателя или зрителя. Между тем, обращенность к читателю характерна для литературы вообще, от Гомера до постмодерна. Агиография представляет собой частный случай литературы, поэтому и она также обращена к читателю. Лурье, возможно, был бы прав, если бы указал, что обращенность к читателю в агиографии обладает какими-либо особыми качествами и не вполне такова, как в литературе вообще - но никаких примеров этому он не приводит.
После пространного, многостраничного изложения теории графов, о корректности коего мы судить не беремся (однако отметим, что на базовые элементы агиографии и исследование ключевых ее тем - например, внутреннего времени и пространства текста - автор места не отвел, Лурье приходит к банальному выводу о наличии в агиографическом тексте пространственных ориентиров, более или менее акцентированных. Однако это и так было понятно всегда, и теория графов ничего нового здесь не привнесла.
То же следует сказать и относительно написанного в § 4.6. Вместо того, чтобы соотносить «локусы» друг с другом, обычное литературоведение и классическая агиография прекрасно обходились и до сих пор обходятся тем, что делят повествование на простые эпизоды со сменой места действия или без оного. Так, для отсутствия описания маршрута совершенно необязательно говорить о незначимости ребра графа (с. 124) в противоположность его вершинам - решение, предлагаемое автором для эпизода с Иоакимом, выходящим в пустыню, может быть описано и без графов. Разве при помощи графов можно доказать, что «внутренняя пустыня» египетской монашеской литературы - это чистая фикция, не связанная с географией? Но ведь, например, и внутренняя Исландия, населенная в легендах утилегуменами (букв. «людьми вне человеческого закона»), вполне соотносится с необитаемыми пространствами вдали от побережья.
Продемонстрировать, что разработанная автором теория агиографических графов работает, Лурье решил продемонстрировать при помощи двух примеров. Мы, в свою очередь, можем сказать: «По плодам их познаете их» (Мф 7. 16) - один из этих примеров оказывается бесполезен, а другой даже свидетельствует против этой теории. В случае с «Чудом св. Феодора Тирона о коливе» автор сам признает, что граф «Евхаиты-Константинополь» вполне можно описать историческим языком; таким образом, граф, не приносящий ничего нового для понимания текста, оказывается сам по себе избыточным, нужным только для некой авторской макротеории. Налицо пример пренебрежения «бритвой Оккама», запрещающей умножать сущности без необходимости: такая необходимость в рассматриваемом примере автором не доказана, и даже, наоборот, подчеркивается адекватность традиционных методов анализа.
Второй пример еще неудачнее. Ведь нельзя сказать что-то более нелепое о св. Димитрии Солунском, чем то, что «древнейшие агиографические тексты связывают культ мученика с городом без привязки к определенному месту в городе» (с. 128). Напротив, в центре всего культа св. Димитрия и связанных с ним текстов, как мученичеств, так и чудес, стоит определение места погребения святого, его обретение, поиск мощей (который те же «Чудеса» эксплицитно запрещают), строительство храма на невыгодном с градостроительной точки зрения месте, победа места культа над старой городской планировкой. Какая интрига стоит за этим напряженным интересом, пытался выяснить П. Шпек[22]: даже сами тексты свидетельствуют о непонятной нам конкуренции за право на реликвии святого между Фессалоникой и Сирмием. Итак, метод автора в данном случае оказывается не просто бессмысленным, но и вводит читателя в заблуждение. И дело не в неудачно выбранном примере, а в бесполезности всей авторской теории графов для агиографии, которая намного лучше обходится собственными классическими методами.
Часть 5: Календарь: общая матрица агиографии и богослужения
Часть 6: Геометрия апокалиптической вселенной
Выше мы уже сказали, что изучение календарей как таковых (а не пространных календарных заметок о святых) принадлежит хронологии и литургике, и потому соответствующие гипотезы Лурье мы здесь просто не разбираем.
Строго говоря, выходит за рамки агиографии и апокалиптика. Конечно, апокалиптическая литература - так же, как и календари - соприкасается с агиографией, но лишь периферийно. Точек соприкосновения, вообще говоря, всего две. С одной стороны, это использование имен святых для создания псевдо-эпиграфа, что, однако, не имеет никакого отношения к агиографическому повествованию о святом и его культе (что еще раз опровергает тезис Лурье об обязательной связи агиографии с культом). С другой стороны, имеются редкие примеры включения апокалиптических видений в состав агиографических произведений, но и сам автор справедливо показывает, что два этих текста бывают разновременными, а соединение их - механическим.
Часть 7: Рождение агиографии при распаде апокалиптики
В седьмой части книги читатель наконец узнает, зачем автору понадобилась апокалиптика. Она служит обоснованием тезиса о рождении христианской агиографии из иудейской традиции (теперь уже вполне определенной: апокалиптической литературы).
В § 7.1 автор снова пытается прикрыться авторитетом Деле, однако Деле, как и болландисты вообще, привлекают апокалиптику для исследования агиографии не как жанр (что делает Лурье), а как источник сведений, пусть и заведомо фиктивных, о святом. Именно в этом и состоит смысл включения некоторых апокалипсисов в BHG.
В § 7.2 автор добирается до своего сформулированного в начале главы тезиса, причем доказательств его даже не приводит. Зато он сообщает читателю, что «космологическая апокалиптика сошла с небес и превратилась в эпическую агиографию» (с. 203). Но это утверждение - чистая фантазия, поскольку выше автор не смог доказать и показать наличие ранних (до IV в.) примеров «эпической» агиографии. Следовательно, самыми ранними жанрами агиографии остаются passions historiques и апокрифические деяния апостолов (II в.), а ни те, ни другие с иудейско-христианской апокалиптикой генетически ничего не связывает.
По мере удаления собственно от агиографии (здесь и в дальнейшем) автор обрушивает на читателя такое количество фактических ошибок и натяжек, что мы вынуждены касаться их предельно кратко.
§ 7.3. Русские былины относят события не только к эпохе Владимира Красно Солнышко - существует, например, целый цикл былин, связанных с монгольским нашествием. Эпохой Нерона не датируется большинство из древних апокрифических актов апостолов - эта датировка в основном вторичная и поздняя. Достаточно большое количество мученичеств датируется и другими эпохами, а не только указанными у Лурье: правлением Антонина Пия, Александра Севера и др. Тезис о том, что «время действия в эпической агиографии... никогда современности не достигает» (с. 205) противоречит признаваемому даже автором типичному приему повествователя-очевидца.
§ 7.4. Идеи М. Бахтина об античном романе в настоящее время могут быть признаны в лучшем случае весьма наивными: возраст героев в античном романе меняется очень часто - на этом, в частности, основан жанр «семейного романа» (классический пример - «История Аполлония, царя Тирского»).
В том же § 7. 4 автор вновь не удосуживается привести примеры passions épiques с вписыванием в историческое время. Выдвигая, в качестве резюме, тезис о присутствии в эпической агиографии космологической апокалиптики, он не приводит ни единого доказательства ее наличия в приведенных им примерах.
В § 7.5 мы видим классический случай выбора периферийного примера, нисколько не помогающего постижению основного объема агиографической литературы.
§ 7.6. Описание путешествия от острова к острову в форме «задания агиографической координаты места в виде переменной», опять же, нисколько не помогает лучшему пониманию даже такого сложного памятника, как «Плавание св. Брендана». Наличие в нем «апокалиптического» начала - лишь один из частных случаев присутствия апокалиптики в агиографии (см. выше), который никак не доказывает рождения агиографии из апокалиптики.
В § 7.7.2.1 автор повторяет свой методологический просчет, аналогичный допущенному выше в разделе о passions épiques. Утверждая основанный на ряде гипотез тезис об иудейском происхождении дат праздников Рождества Христова и Богоявления, автор «забывает» показать несостоятельность «римской» теории их происхождения Узенера, которая, по его же словам, признается как единственная реальная в последних работах по данной теме. Попутно отметим, что автор, без всяких обоснований, датирует описанный выше константинопольский календарь памятей пророков VI в., хотя его реальные носители не выходят за пределы средневизантийской эпохи (см. выше).
§ 7.2.2.3. Автор приводит примеры, опять же, периферийные или гипотетические, подвижных памятей святых, придавая им «космологическое» значение. Однако такая практика часто применялась и в центральном византийском «мейнстриме»: многие из подвижных памятей триодного цикла представляют собой перенесенные на субботы и воскресенья мартовские и апрельские памяти, без всякой «космологической» привязки.
8. Recapitulatio
Оценим перечисляемые автором в заключительном разделе его книги положения (а скорее, аксиомы, так как доказывать их он не смог или, вернее, даже не потрудился) той науки, которую он именует «критической агиографией».
1) Прямым продолжением иудео-христианской апокалиптики не может быть сама христианская агиография, поскольку наиболее древние ее примеры второй с первой не связаны. Такая связь, впрочем, априорно возможна - но лишь для отдельных агиографических памятников, но и последнее нужно еще научно обосновать.
2) Космологические воззрения характерны для отдельных памятников разных литературных жанров, а не специально агиографии. Вопреки Лурье, большинство агиографических текстов (особенно «исторических») с космологией не соприкасается.
3) Координаты времени и места в памятнике либо присутствуют, либо нет, и никакого влияния «геометрические свойства вселенной агиографического нарратива» (с. 233) на каждый конкретный памятник не оказывают, так что «прикручивать» к агиографии теорию графов - бессмысленно.
4) «Пересечение земной и небесной половин в космологическом времени» (с. 233) - это замечательный художественный образ, но никакой опоры в конкретных памятниках он не находит и лучше их осмыслить не помогает.
5 и 6) Анализ календарей выходит за рамки собственно агиографии, останавливаться на нем мы не будем.
7) Не столько «агиографические координаты пространства формируют на земле структуру «сакральной географии»» (с. 233), сколько, наоборот, сакральная география культа формирует «агиографические координаты» текста.
8) Утверждение, что человек живет в освященном и определенном его религией пространстве и времени - банально. Автору следовало бы пояснить, как именно этот факт влияет на агиографию.
9) Наконец, если под загадочными «структурами культового пространства и времени» (с. 233) автор подразумевает теорию графов и «космологический календарь», то, вопреки Лурье, практически ни один агиографический памятник не ставит своей целью сообщить о них, поскольку сообщить он хочет, прежде всего, о конкретном святом, различных аспектах его почитания и тому подобных вещах. Однако, как прекрасно показал Умберто Эко на примере итальянского газетного киоска, и в агиографию можно вчитать и додумать очень многое, включая, наверное, и эти загадочные структуры.
Подводя итог нашей рецензии, заметим, что именно к приему «вчитывания» и сводится основной метод автора книги. Потому не совсем случайной представляется нам и прямая отсылка Лурье к В. П. Рудневу, давшему «импульс развитию большинства философских идей этого исследования» (с. 13). На что «исследование» Лурье, действительно, похоже, так это на пресловутую рудневскую работу «Винни Пух и философия обыденного языка»[23]. Метод Руднева, анализирующий детскую сказку методами примитивного фрейдизма, Лурье переносит на агиографию, пусть и без Фрейда (выиграл ли от этого читатель книги, судить не нам).
А нам, в свою очередь, хотелось бы заверить читателя, что подлинная критическая агиография - это отнюдь не симулякр, использующий надуманные или избыточные методы и произвольные интерпретации. Задача подлинной критической агиографии - это прежде всего исследование памятника, исходя из него самого, а не из презумптивных гипотез. Анализу подлежит внутренний и внешний аспекты текста, т.е. как его внутренний мир, пространство и время, так и его соотнесение с исторической реальностью и системой агиографических жанров. Наконец, для создания подлинной теории критической агиографии необходим анализ не единичных памятников, но их массивов в рамках жанров, который позволит отделить единичные явления от общих закономерностей. Поэтому-то «Введение в критическую агиографию» - это крайне неудачный заголовок для книги Лурье. Книга совсем не о том[24].
* * *
В заключение настоящей рецензии следует с огромным сожалением констатировать, что ни первую, ни вторую из рецензируемых работ введением в агиографию назвать нельзя. Даже с задачей просто отразить современное состояние этой научной дисциплины обе они не справились, хотя и по разным причинам: первая - в силу незнакомства ее автора с современной научной литературой и аппаратом, а вторая, наоборот, - из-за увлечения автора маргинальными научными гипотезами последних лет.