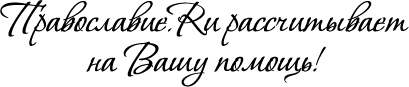1812 год: начало духовной борьбы

|
| Петр Андреевич Вяземский. Художник К. Рейхель. 1817 г. |
Давно ль, с любовью пополам,
Плели нам резвые хариты
Венки, из свежих роз увиты,
И пели юные пииты
Гимн благодарности богам?
Давно ль? – и сладкий сон исчез!
И гимны наши – голос муки…
И все-таки «мечта» оказывается единственным утешением и прибежищем в страшном внешнем мире:
А вы, товарищи-друзья,
Явитесь мне хоть в сновиденье
И, оживя в воображенье
Часов протекших наслажденье,
Обманом счастлив буду я!
То же настроение и в послании «Жуковскому» (1812), где говорится о старике, у которого погибла дочь: «Пускай мечты его обманут муку…»
Вскоре Вяземский находит подтверждение своей вере в магию поэтического воображения. Помог ему в этом приятель-поэт, бывший осенью 1812 года в Вологде губернским прокурором, – Н.Ф. Остолопов, который заключил одно свое стихотворение словами: «Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу». Спустя многие годы в статье о Ю.А. Нелединском-Мелецком (1848) Вяземский вспомнил об этом так: «Недаром говорят, что поэт есть вещий. Мог ли Наполеон вообразить, что он имел в Остолопове своего злого вещего и что отречение, подписанное им в Фонтенебло в 1814 году, было еще в 1812 году дело уже порешенное губернским прокурором в Вологде?»[1] Очевидно, что в статье 1848 года Вяземский передает одно из настроений своего сознания в 1813–1814 годах: поэт не предсказывает Промысл Божий, а сам властно предопределяет ход событий.
В 1813 году поэт вновь уверенно исповедует свое мечтательное язычество: «Молю богов всещедрых я…»[2].
Однако переживания 1812–1813 годов были, конечно, слишком сильными, чтобы не нарушить сон поэтического воображения. В 1813–1814 годах временами творчество Вяземского сближается с воинственной и православно-державной лирикой Жуковского, написавшего «Певца во стане русских воинов» (1812), «Молитву детей» (1813), «Молитву русского народа» («Боже! Царя храни!..») (1814). Вяземский пишет обращенное к Жуковскому и посвященное смерти полководца М.И. Кутузова послание «К Тиртею славян» (1813), где сказано, что для Жуковского усопший военачальник «будет щит и вдохновенья гений».
В 1814 году Вяземский славит победу русского оружия в ряде воинственно-державных стихотворений, однако православный дух в этой лирике выражен слабо или вообще не выражен. В «Надписи над бюстом императора Александра I» (1814) даже, наоборот, слышен отзвук кощунства (смертный человек обычным для магии способом представлен богом, а в данном случае словно бы Христом Спасителем):
Какой ему венец, какой ему алтарь?
Вселенная! пади пред ним, он твой
спаситель;
Россия! им гордись – он сын твой, он
твой царь!
В книжечке с масонским названием «Храм бессмертия» (М., 1814) было напечатано стихотворение Вяземского «Польской (Песнь на взятие Парижа)». Здесь православное сознание выражено лишь косвенно – через воспроизведение слога ветхозаветных псалмов:
Упал на дерзкие главы
Гром мести сильной и
правдивой…
Мы празднуем твою днесь месть!
Москва! хвала тебе и честь.
В «Многолетии, петом во время ужина, при питье за здоровье государя» (1814) православный дух выражен наиболее отчетливо (в молитвенном обращении к Богу, в здравице «Многия лета…»):
Многия лета, многия лета
Спасшему царства праведной битвой,
Славе России, радости света!
Боже! тронися нашей молитвой:
Спасшему царства праведной битвой,
Славе России, радости света,
Многия лета, многия лета!
Однако первое веяние православного духа в поэзии Вяземского оказалось мимолетным. Еще не вполне определившись, оно уже в 1813 году стало подвергаться сомнениям. В это время поэт еще поддерживает воинственную и православную лирику Жуковского, но уже в апреле 1813 года пишет о нем А.И. Тургеневу: «Нельзя долго жить в мечтательном мире, и не надобно забывать, что мы хотя и одарены бессмертною душою, но все-таки немного причастны скотству, а может быть, и очень»[3]. Под «мечтательным миром» разумеется здесь не только и не столько художественное сознание карамзинского направления, сколько православная мистика Жуковского.
В этом же письме к А.И. Тургеневу Вяземский на несколько лет вперед намечает для себя новый выход из мечтаний, выход, внушенный ему, как одновременно и многим будущим декабристам, суровыми событиями текущей войны: победа над грозным внешним врагом внушает надежду на возможность насильственного искоренения зла во внутренней жизни Отечества. Это выход через государственный переворот, испытанный во Франции в конце прошлого, XVIII, века и подготовленный там просветительской деятельностью философов и писателей, по-прежнему приятных юношескому сердцу Вяземского. Так перед поэтом выясняется просветительское, «разумное» направление творчества, и это направление несовместимо с православной мистикой.
Вместе с православностью Вяземский начинает осмеивать державность и сам дух отчизнолюбия. В 1813 году он шутит над напечатанным в «Вестнике Европы» воззванием графа А.И. Мусина-Пушкина к крестьянам о защите Отечества. В послании «К Кокошкину и Мерзлякову» (1814) он позволяет себе шутливо поминать падение святости в России, развалины сгоревшей Москвы:
За Москвою, что, бывало,
Белокаменной Москвой
Звали на Руси святой,
Но где ныне камней мало
И белеет снег один
На громадах обгорелых…
В ноэле «Спасителя рожденьем…» (1814) Вяземский свободно до кощунственности использовал праздник Рождества Христова для осмеяния ревностных защитников православной державности (в частности председателя Российской академии А.С. Шишкова и писателей, входивших в состав возглавляемой Шишковым «Беседы любителей русского слова», а также ректора Петербургской духовной академии Филарета, впоследствии митрополита Московского), и это вперемежку с обличением действительных недостатков правительства.
В 1815 году в лирике Вяземского появляются софийные женские образы, осмысленные в духе гностического пантеизма, а не Православия: божественная софийность бытия рассредоточена повсюду, но особенно проявляется она в женском облике, являя в нем самую свою суть – прельстительную красоту, поглощающую и наводящую самозабвение, растворение души. Употребляемое при этом женское имя «София» (в переводе с греческого – «Премудрость») в художественных обычаях рубежа веков являлось знаковым, отсылая либо к магической, либо (позднее у Вяземского) к православно-мистической софиологии. Совсем кратко магическая софийная гностика выражена в послании «В Новый год гр<афине> Софии Аполлоновне Мусиной-Пушкиной» (1815):
Пускай от неба ждут даров себе другие,
Тебе уж нечего желать.
В земной женщине усматривается полное воплощение божественной премудрости и красоты, и тем самым оправдывается неудержимое влечение к ней, желание ей поклоняться. При этом вполне в духе магического оборотничества добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие перемешиваются и уравниваются:
Ты тьму различностей в себе соединяешь:
Как ангел, хороша, как дух, нас мучишь, злой,
Ты именем своим о мудрости вещаешь
И до безумия пленяешь красотой.
(К Софье. 1815).
Много позднее, в стихотворении «Вера и София (Бухариной и Горсткиной)» (1832), Вяземский истолкует женскую красоту в духе христианской софиологии – как отражение (образ и подобие) Божественной Премудрости в ладности земного мира (а не как само Богоявление); в этом смысле земная софийность отличается от Божественной, постигаемой уже не разумом и чувствами, а сверхразумной верой:
Таятся ваших свойств залоги
И в самых ваших именах…
Вы, Вера, чем-то безотчетным,
Неизъяснимым быть должны –
Каким-то таинством бесплотным,
Явленьем чуждой стороны…
София! Вас назвать – и с
вами
Недоуменью места нет!..
Вы истина в изящном мире,
И чуждым только слепоты
Глазам, как дважды-два-четыре,
Вы аксиома красоты…
В одной – таинственность с залогом
Всего, что вне границ мирских;
В другой – действительность с
итогом
Всех благ, всех совершенств
земных.
В 1815 году резко обостряются и без того натянутые отношения сторонников Карамзина, с одной стороны, и сторонников А.С. Шишкова, членов общества «Беседа любителей русского слова» – с другой. Поводом послужила премьера комедии А.А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (23 сентября 1815), поскольку образными намеками автор чувствительно задел В.А. Жуковского, С.С. Уварова, В.Л. Пушкина. После этого Вяземский с друзьями объединились в противостоящее «Беседе» общество «Арзамас» – с целью непрестанного, последовательного осмеяния своих противников. С новой силой поэт принялся нападать на самого Шишкова: «Кто вождь у нас невеждам и педантам?» (1815) – это стихотворное поругание Шишкова осудил Жуковский, пометив на рукописи: «Дурно, потому что несправедливо»; «Не только несправедливо, но и дурно»[4].
В это время Вяземский получает кружковое прозвище «Асмодей» – шутливое, но и зловещее. Между прочим, в «Арзамасе» в шутку воспроизводили обряды и приемы черной магии, направленные на умерщвление своих врагов: членов «Беседы» «отпевали» вместе с их сочинениями таким образом, что каждый новый член «Арзамаса» говорил надгробное слово на смерть какого-нибудь «беседчика», в действительности еще живого. Тем самым нежеланных писателей «хоронили» молчанием. Все это, конечно, смеха ради, в переносном смысле, однако настоящая магия не знает условности метафор, да и по самой своей сути насмешлива, глумлива по отношению к положительным мистическим верованиям (в данном случае деятельность «Беседы» связывалась в сознании арзамасцев с устаревшим, по их мнению, Православием и с защитой его священного языка – церковнославянского). Особенно это касается черной магии, склонной к глумливому выворачиванию наизнанку всего положительного, благого. Члены «Арзамаса» не могли не знать особенностей магического сознания, ведь многие из них состояли в масонских ложах, а другие близко знали многих масонов; да и самый дух времени предполагал знание азов магии. Знаменательно, что в короткой истории «Арзамаса» был случай, когда магическое средство словно бы оказалось действенным. После того как Д.Н. Блудов 16 декабря 1815 года «отпел» одного из руководителей «Беседы» – писателя И.С. Захарова, тот вскоре, 30 января 1816 года, действительно скончался, и это произвело на арзамасцев сильное впечатление[5]. Пушкин, вступая в это общество в 1817 году, во вступительной речи припомнил, как «смерть Захарову пророчила Кассандра»[6]. Кружковое прозвище Блудова по имени мифологической прорицательницы Кассандры, данное раньше «отпевания» Захарова (еще на учредительном заседании 14 октября 1815 года), на первый взгляд, могло бы несколько успокаивать: можно было утешаться мнением, что арзамасец лишь предсказал смерть беседчика, а не вызвал ее; однако, следуя магии воображения, надо было верить, что прорицатель именно как «бог» производит события, «изрекает» их из собственной души.
Много лет спустя Вяземский в «Автобиографическом введении» косвенно признал, что судьба наказала его за прежние арзамасские шалости, когда уже другие люди применили к нему самому словно бы прием черной магии: «Выдержал я испытание и заговора молчания, который устроили против меня. Я был отпет: кругом могилы моей, в которую меня живого зарыли, глубокое молчание. Что же? Все ничего… Чужие не могут придать мне здоровья, не могут со стороны привить мне и недуги. Злокачественные поверия и наития бессильны надо мною»[7]. А завершается все это рассуждение выражением веры в победу христианской мистики над черной магией: «Я верую в утро и воскресение мертвых, следовательно, и в свое»[8].
Свойственный «Арзамасу» дух непринужденного веселья и магического воображения частично вернул черты «допожарного» творчества Вяземского. В послании «К друзьям» (1815) это выражается еще как намерение:
Кинем печали!
Боги нам дали
Радость на час.
А в «Весеннем утре» (1815) воссоздание античной мифологии силою поэтического воображения уже вполне осуществлено. Лик природы попеременно является здесь то Ио, то Флорой, то Венерой, то Аргусом, то Дафной. Явления природы и единая с ними душа автора пронизаны похотливым желанием «неги» и «любви», участвуют во взаимном и всеобщем превращении (Дафной оказывается возлюбленная автора). Сторонник Шишкова Я.И. Бардовский прочитал это стихотворение как простое иносказание, однако точно уловил господствующий в содержании неправославный дух всесмесительного сладострастия, что и выразил в стихотворном отклике:
Мне кажется, и князь, как муж и как отец,
Не стал бы потакать, когда какой наглец
При нем же начал звать княгинюшку
любезну,
Его жену, иль дочь, княжну, «под сень
древесну»…
Уверен я, что князь сего б не потерпел,
Зачем же сам другим «Весенне утро»
спел?..
Что ж должны чувствовать невинные
девицы,
На коих падают столь гнусны небылицы?[9]
В духе игривого воображения выдержано и стихотворение «К подруге» (1815), где в счастливый самозамкнутый мир приглашаются не только возлюбленная поэта, но и друзья по перу: Карамзин, Жуковский, причем Жуковский сравнивается с его героем Громобоем, а сам соблазняющий миром своего воображения Вяземский оказывается демоном Асмодеем. Жуковский первоначально был назван здесь «наперсником ведьм и граций», и лишь потом, по совету К.Н. Батюшкова, Вяземский заменил на «фей и граций». Таким образом, вновь насмешка поэта бросает на его безмятежно-мечтательный мир тревожный отблеск адского пламени, что можно расценить как бессознательное сопротивление души, отчасти склоняющейся к православно-мистическому мировосприятию.
И действительно, в следующем году поэт пишет ряд стихов, явно противоречащих арзамасскому направлению. В послании «К***» (1816) поэт, пусть сожалея, но все-таки признает свой неуспех в делах магического воображения:
Язык богов, язык святого
вдохновенья –
В стихах моих язык сухого поученья.
Я, строгой истиной вооружая стих,
Был чужд волшебства муз и вымыслов
счастливых.
В другом самокритическом стихотворении «К перу моему» (1816) – своего рода светской художнической исповеди – уже слышен легкий призвук христианского смиренного покаяния (правда, при обращении к «перу» вместо Бога или священника):
И кто мне право дал, вооружась тобой,
Парнасской братьи быть убийцей-судией?
Мне ль, славе чуждому, других в стихах
бесславить?
Мне ль, быв защитником неправедной
войны,
Бессовестно казнить виновных без
вины?
Здесь явно имеется в виду борьба с православной по направлению «Беседой», и не случайно позднее поэт уточняет, заменив строку «То этот, то другой в мой стих идет заплатой» на «Любой славянофил в мой стих идет заплатой».
Однако подобные настроения еще очень неустойчивы в 1816 году. В частности, в проникновенном стихотворении «К NN. На смерть сына», где, несомненно, отразились и личные горестные переживания, поэт уповает на каких-то «богов»:
Как облако благоуханья
Кадил, пылающих к богам,
Его ты душу в час прощанья
Ловил по трепетным устам.
В 1817 году Вяземский пытается вернуться в свой изначальный мир, созданный магическим воображением, и пытается вернуть вместе с собой и Батюшкова, который как раз в 1817 году также пробовал выйти из арзамасского духовного круга в христианскую мистику (причем предпринимал подобные попытки с нарастающими усилиями с 1815 года). В этом настроении Вяземский пишет послание «К Батюшкову» (1817). Обращаясь к другу, он обращается и к себе, употребляя выражение «мы». Батюшков, действительно, со следующего года навсегда отвернулся от христианства, пытаясь найти утешение то в магии воображения, то в обычном пантеизме с его культом творческих экстазов, но все это лишь ускоряло уже начавшееся разрушение его личности. К середине 1820-х годов Батюшков впал в настоящее безумие, вел «переписку» с давно умершим Байроном и временами сочинял стихи, свидетельствовавшие, что он стал жертвой магии собственного воображения. Уже на исходе жизни, в 1853 году, он написал четверостишие, в котором обычным для арзамасцев образом снята граница между сном и явью, воображением и действительностью:
Премудро создан я, могу на свет
сослаться;
Могу чихнуть, могу зевнуть;
Я просыпаюсь, чтоб заснуть,
И сплю, чтоб вечно просыпаться[10].
Вяземский неизменно следил за судьбой своего несчастного друга и, конечно, сознавал возможность глубокой связи между магией самодовлеющего творческого воображения и безумием, бесповоротно замыкающим человека в мире его внутренних представлений, оторванных от окружающей действительности. Такое внимание Вяземского могло подогреваться его собственной, нараставшей с течением лет разлаженностью душевной жизни. Он так же испытал уже не зависящее от его воли снятие границы между сном и явью, мучаясь многолетней бессонницей, и это состояние отразилось, например, в первых двух стихотворениях из «собрания» «Хандра с проблесками» (между 1874 и 1877).
В 1817 году Вяземский начинает (и завершает в 1819-м) стихотворение «Первый снег». В исходном виде – это попытка изобразить не воображаемое, а осязательно чувственное срастание с прекрасной зимней природой, попытка обрести в ее красоте душевное успокоение, исцеление, а в итоге – счастье. Впрочем, эта попытка теснится, с одной стороны, трезвостью рассудка, который видит, как молодость «и жить торопится, и чувствовать спешит», а в итоге сгорает до «пепла хладного»; с другой же стороны, душа поэта вновь пытается обрести ускользающее «зимнее» счастье с помощью неосязаемого воображения – «воспоминанья тайного» о нем.
В «Прощании с халатом» (21 сентября 1817) впервые появляется образ «халата» как некоего одевающего всю человеческую жизнь мечтания, как оболочки внутреннего мира, совпадающего с миром вообще. К этому образу поэт вернется и потом – в своей лебединой песне «Жизнь наша в старости – изношенный халат…» (между 1874 и 1877). За пределами «халатной» жизни предполагается некое внешнее призрачно-хаотичное полубытие, еще не определенное творческим усилием поэта, и он решает искуситься выходом в этот невнятный внешний мир, на испытание своих творческих сил в борьбе с косным противодействием неисследованных внешних стихий:
Что ждет меня в пути, где под туманом
Свет истины не различишь с обманом?
В стихотворении отразились переживания Вяземского в связи с его решением послужить государству в Варшаве. Он получил назначение в августе 1817 года, а выехал в феврале 1818-го. «Прощание с халатом» завершается обычным для него упованием на мир собственного замкнутого воображения в случае, если преобразование внешней существенности сообразно его внутренним установкам не будет достигнуто:
Пусть прежней вновь я жизнью
оживу
И, сладких снов в волшебном
упоенье
Переродясь, пусть обрету забвенье
Всего того, что видел наяву.
Уже в 1817 году Вяземский оценивает свои силы на случай внешних битв и проводит «проверку боем». В стихотворении «Всякий на свой покрой» он признает, что всякий человек по-своему видит и творчески воспринимает жизнь. И он выстраивает некий ряд союзных себе писателей, могущественных преобразователей внешнего бытия: Вольтер, Фонвизин, Карамзин, Жуковский – все они «портные», все шьют для читателей одежду их мира, мировосприятия (здесь внутренняя связь со стихотворением «Прощание с халатом»). В стихотворении «Доведь» (1817) разоблачаются и осуждаются коренные представления внешнего мира: вера в разумное и благое устройство мироздания в целом и Российского государства в частности (здесь слышится влияние раннего Фонвизина, его «Послания к слугам моим…»). Этот странный, нелепый, по Вяземскому, мир напоминает плохую игру в шашки. В статье «О жизни и сочинениях В.А. Озерова» (1817) он прозрачно намекает на непросвещенность, духовную необработанность основного внешнего вероисповедания – православного. Православие, намекает Вяземский, не изменилось из-за косности, невежественности своих исповедников: «Просвещение, грядущее исполинскими шагами, усовершенствовавшее науки, обогатившее казну человеческих понятий, преобразовавшее самые государства, до них не коснулось… Пускай доканчивают они тяжелый сон жизни своей на вековом камне под усыпительным надзором невежества и предрассудков»[11]. Под «вековым камнем» здесь, вероятно, разумеются христианские представления о Христе как краеугольном камне жизни и веры (см.: Мф. 21: 42) и о Церкви Христовой как камне в основании мировой жизни (см.: Мф. 16: 18).
Вникая в окружающую его внешнюю жизнь, то есть в российскую действительность 1818 года, Вяземский с удивлением замечает, что в ней все большее значение приобретает Православная Церковь, а точнее – высшие государственные чиновники, в том числе и масоны, которые вдруг стали богомольными насадителями некоего нового «мистицизма». Вяземский не желает (да и не может в силу своего воспитания) разбираться, кто подлинно православен, а кто нет среди ревнителей христианства времен «сугубого министерства», объединившего в 1817 году Министерства народного просвещения и духовных дел. Одинаковую неприязнь вызывают у него, с одной стороны, неистовые масоны Библейского общества, переводившие Библию на современный русский язык со священного церковнославянского, а с другой стороны, противники масонских новшеств: митрополит Петербургский Серафим, архимандрит Фотий, председатель Российской академии А.С. Шишков. Воспитанник французских просветителей и католиков-иезуитов был порою склонен считать все, что связано с русским Православием, одной большой ложью, и это отражается, например, в послании «Толстому» (1818):
Я не прошу у благодати
Втереться мне к библейской знати
И по кресту вести к крестам,
Ни ко двору, ни к небесам.
Здесь же в духе обычного своего арзамасского шутовства Вяземский ставит и решает коренные вопросы бытия: христианскую духовность отвергает, хвалит французских просветителей, проповедников рассудочности (Вольтера) и чувственности (Кондильяка, Руссо); предпочитает «рассудку» «чувства», причем совершенно бездуховные, окосневающие на уровне желудка – «чувств властителя»; сохраняет и возможность ухода в мир своего воображения: «Ложь лучше истины иной».
В притче «Быль» (около 1818) продолжены нападки на Православие и защитников церковнославянского языка. Русская вера, русский священный язык (церковнославянский) и русская история, летописно изложенная этим языком, представлены здесь как обветшалый «храм готического зданья, / Обитель сов, унынья и молчанья». «Чародей» Карамзин «сломал ряд стен» и воздвиг новый «чертог» русского священного языка (это язык новой словесности карамзинского направления), русской веры (это художественное миросозерцание новых писателей, ставших «богами» для своих поклонников) и русской истории (это «История государства Российского», изложенная Карамзиным в новом духе и новым языком).
В упомянутом выше послании «Толстому» Вяземский ценит в нраве своего приятеля сшибку противоречий, метание из крайности в крайность и обратно (причем крайности эти жизненно важные, судьбоносные): «Из рая в ад, из ада в рай!» Добро и зло, рай и ад, Бог и черт кажутся магическому арзамасскому сознанию равно достойными, взаимно необходимыми противоположностями бытия, лишенными, впрочем, бытийной самостоятельности и зависящими от произвола творческого воображения. Именно таким образом молодой Вяземский мог объяснять себе свои непрестанные метания между Православием и откровенным магизмом, а порою и отшатывание от того и другого в область бездуховного сознания и уже там – колебания между чувственностью и рассудочностью. Причем, находясь временно в области одной из таких крайностей, поэт мог порою забывать о равном достоинстве остальных и вообще о целостном единстве противоречий, так что однажды, в письме к А.И. Тургеневу от 13 октября 1818 года, он упрекнул Жуковского в том самом метании между крайностями, которое в себе самом в иных случаях оправдывал: в том, что Жуковский «в первую субботу напьется с Карамзиным, а в другую с Шишковым»[12].
Переменчивость самого Вяземского в конце 1810-х годов достигла такой степени, что он вынужден был сравнить себя с «комнатным термометром» (2-я записная книжка. 4 августа 1819)[13]. Порою он пытается избавиться от утомительной переменчивости путем предельного упрощения, опустошения душевной жизни: «Я желал бы уместить все бытие свое в одно чувство, а это чувство издержать в одном ощущении»[14]. Однако чаще он склонен признавать: «В всегдашней борьбе с самим собою я почерпаю жизнь в потрясении и стыке наклонностей, друг другу противных»[15].
«Стык» противоположных духовных наклонностей, верований приводил к их взаимному ослаблению и превращению в послушное месиво для творческих дерзаний художника. Как ранее Вяземский свободно обращался с античными «богами», а также с Богородицей и Христом, так теперь он совершенно раскован в письме к Д.В. Дашкову от 2/14 ноября 1818 года, упоминая своего «постояннейшего отдушника – А.И. Тургенева»: «Клянусь вам его Библиею, вашим Алкораном и моим Талмудом»[16]. Примечательно, что себя он в шутку причисляет к исповедникам Талмуда – позднеиудейской мифологии, соединенной с каббалистической магией и принятой масонами в качестве основы для смешения всех вероисповеданий.
В послании «Жуковскому» (1819) смешиваются христианские и древнегреческие предания, рай сопоставляется с Парнасом, Адам, вкусивший запретный плод, сближается с Прометеем, и сам поэт мыслит себя подобным тому и другому: «И мной владеет вновь парнасский сатана»; «Свой рай земной сменил я добровольным адом». Поэзия оказывается «ядом», дарующим сверхчеловеческое могущество и счастье, но одновременно и несчастье познания тайн бытия.
В духе этой самочинной оборотнической и смесительной мифологии поэт пишет «Уныние» (1819) – первое из многолетнего ряда стихотворений, посвященных описанию «добродетелей» души, которые христианская мистика считает, напротив, грехами. Уныние, по мнению поэта, – «вернейший друг души» (в 1831 году в этом духе написаны «Хандра» и «Тоска»; оттенки подобного душеведения заметны и в позднем «собрании» «Хандра с проблесками»). Здесь же говорится и о «святой ненависти». Тут же – и об «алтаре души», перед которым творец, в сущности, вершит своевольное служение самому себе.
Вяземский мыслит себя и близких ему писателей творцами нового вероисповедания и по сути «богами». Он соглашается с И.И. Дмитриевым в том, «что с той поры, как у нас духовные писатели стараются подражать светским, светские просятся в духовные»[17]. Себя с друзьями он и относит к числу таких новых духовных писателей, благовестников новой веры в божественное могущество творческого воображения человека. Соответственно, в дневниковых записях 1819 года он пытается утвердить свою самодельную веру как подлинно «мистическую», а христианский мистицизм рассудочно опровергает обычными для просветительского богоборчества доводами: «Мистицизм духовный нимало не похож на мистицизм поэтический. Тем сильнее полюблю я Бога, чем яснее истолкуют мне Его; тем далее я от поэзии, чем далее подвигаюсь я в ее истолковании. В духовном не только прозы требую, но и математики; докажите мне, что Бог есть, как дважды два четыре, и я набожнейший из людей… Если родился бы я царем, я желал бы иметь сверхъестественное средство сделать всякое преступление в царствовании моем невозможным. Что за жестокий и мелкий был бы расчет, имея это средство, дать каждому подданному волю, чтобы после, в день суда, отличить неповинных от виновных»[18]. Ряд последовательных дневниковых записей 1819 года содержит упреки, обращенные к христианскому Богу, просветительские доказательства Его небытия и выпады воспитанника иезуитов против Православия. Последнее слышится в суждении: «“И доброго ответа на страшном судище Христовом просим”. Зачем “страшном”? Французское “последнее судище” не имеет сего жестокого смысла»[19].
В письме к А.И. Тургеневу от 11 июля 1819 года Вяземский предается совершенно магическому размышлению: «Вот пришлось сказать: “Глас Божий – глас народа”. Заметил ли ты, что “vox populi – vox Dei” у нас совсем навыворот? Для ясности непременно надобно было бы сказать: “Глас народа – глас Божий”. Не народ подслушивает Божий голос, а Бог вторит голосу народа»[20]. По Вяземскому, сам народ должен понять, что он – могущественный, божественный источник собственной свободы, а растолковать ему это должны новые «боги» – новые писатели, олицетворяющие в себе божественную сущность человечества. Любопытно, что спустя много лет Вяземский истолкует русский изворот поговорки противоположным образом: как благое торжество отечественного правоверия – Православия.
Магические настроения в мечущемся сознании поэта не могли устойчиво преобладать. В послании «Сибирякову» (1819) он пытается обосновать христианской мистикой просветительские представления о личной и общественной свободе:
Свобода в нас самих: небес святой
залог,
Как собственность души ее нам вверил
Бог!
Около 1819 года в стихотворении «Петербург» Вяземский возвращается к православно-державным настроениям 1814 года – с надеждой, что «слепое самовластье» превратится в ближайшее время в просвещенную державность, которая частично проявлялась уже при Петре I, Екатерине II и вновь наметилась при Александре I:
И просвещение взаимной пользы цепью
Тесней соединит владыку и народ.
«Просвещение» выглядит здесь воинственно православным. Оно обеспечивает овладение «полсветом» при Екатерине и продвижение России «на пути в Стамбул» (то есть к освобождению былой столицы православного мира – Константинополя). Это просвещение так обустраивает русскую государственность, что каждый подданный вполне обретает право священной, богоданной свободы личности, провозглашенной христианством. В этом поэт видит залог чудесного процветания народа.
В стихотворении «Услад» (1819) Вяземский творчески осваивает духовное состояние русских славян при их переходе от язычества к христианству. Воин с еще нехристианским славянским именем в смирении исповедует Православие, а мистическая смиренность Православия вдыхает в него победоносную силу для защиты от врагов и освящает его брак с прекрасной девицей во имя продолжения рода православного. Здесь же впервые у поэта появляется стихотворная молитва, правда, пока еще не своя, а услышанная со стороны:
Схвативши меч булатной
Пред битвой роковой,
В часовне к Благодатной
Взошел Услад с мольбой:
«Молю, ты призри младость,
Будь мне святой покров!
В любви девицы радость,
Пусть буду страх врагов…»
Однако православное настроение по-прежнему мимолетно. В стихотворении «Во имя хартии, свободы…» (1820) Вяземский подносит «табакерку либеральную» ко «всем староверческим носам» сторонников исконной православной державности – этим, по его мнению, «крещеным нехристям, врагам / Завоеваний мысли смелой; / Друзьям привычки закоснелой». При этом поэт мнит, что Христос на его стороне.
В стихотворении «Негодование» возвышается еще одна нехристианская добродетель. Впрочем, автор стремится придать своему чувству окраску библейских псалмических обличений, писанных «спасительным глаголом». Он обличает и светское правосудие, и Православную Церковь за поклонение «одним богам земным». Он богоборствует, с христианской точки зрения, когда вопрошает: «Где ж казни Бог: Где ж судия необольстимый?» – и не находит такого Бога, а вместо него предлагает поклоняться магическому божеству гордых душ – «свободе» как божественному состоянию самих же людей:
Ищу я искренних жрецов
Свободы, сильных душ кумира…
И он без всякой скромности (неуместной в этом строе сознания) заявляет о себе как первом из таких жрецов:
Свобода! пылким вдохновеньем,
Я первый русским песнопеньем
Тебя приветствовать дерзал
И звучным строем песней новых
Будил молчанье скал суровых
И слух ничтожных устрашал.
Жрец и одновременно божество новой собственной веры всесильным махом своей воли, выраженным «языком богов», выводит из первозданного хаоса и ничтожества новую русскую жизнь. По поводу этого стихотворения Вяземский писал А.И. Тургеневу 13 ноября 1820 года: «Кажется, нигде столько души моей не было, как тут»[21].
В 1821 году Вяземский почти безудержно предается поэтической магии, подчеркивая полный отказ от рассудка, следовать которому, с его точки зрения, – верх безумия:
Рассудительный наш век
На рассудке помешался…
(Графине Софье Алексеевне Мусиной-Пушкиной)
И в любовной лирике выражается смесительная магия, меняющая местами свет и тьму:
Где вы, черные очи,
Где вы, звезды мои?
(Отрывок. 1821)
Это гностический по духу образ софийной женственности бытия, манящей и поглощающей.
Родственный дух пантеистического саморастворения в неопределенной божественности мироздания выражен в «Утре на Волге» (1821), только здесь софийность воплощена и явлена не в женщине, а в текучей речной стихии. Здесь впервые у Вяземского появляются в своем сочетании гностические образы некоего «Всевышнего» отца и оплодотворяемой им, тоже божественной, но только более близкой к своим тварным порождениям «природы-матери»:
Как мысль Всевышнего, на пурпурном
Востоке
Златая искра занялась…
Природы пир, творенья радость,
Светлеет утро на земле…
Я твой природа, твой отныне!
Отступника усынови!
Я подхожу к твоей святыне
С сердечным трепетом любви.
Поведай мне свои святые
откровенья,
Согрей меня и озари
И тихим жаром умиленья
Мой ум и душу раствори.
Образ божественной «природы-матери», видимо, был навеян батюшковским переложением строфы 178 4-й песни «Странствований Чайльд-Гарольда» Дж.-Г. Байрона (где одновременно отвергается христианская нравственность):
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,
Для сердца ты всего дороже![22]
(1819)
Вяземский знал переложение Батюшкова и даже сохранил в памяти перевод начальных строк следующей, 179-й, строфы из поэмы Байрона[23]. Вслед за Байроном Батюшков поет восхищенную, исступленную любовь к «дикости лесов», «приморскому брегу», «огромному океану». Любовь к ликам безграничной природной стихии растворяет душу. В течение последующих десятилетий своего творчества Вяземский будет время от времени находить успокоение в этом всебожии, причем, в зависимости от увлекающих его природных ликов, всебожие будет принимать оттенки «морского» (Море. 1826; Босфор. 1849), «дорожного» (Коляска. 1826; Дорожная дума. 1830), «лесного» (Леса. 1830), «полевого» (Тропинка. 1848; Сумерки. 1848), «горного» (Горы ночью. 1867), «степного» (Степью. 1849), «небесного» («Пожар на небесах – и на воде пожар…». 1863 или 1864) и т.д. Одушевленная морская стихия была более всего созвучна пантеистическим настроениям поэта:
Красноречивы и могучи
Земли и неба голоса,
Когда в огнях грохочут тучи
И с бурей, полные созвучий,
Перекликаются леса.
Но все, о море! все ничтожно
Пред жалобой твоей ночной,
Когда смутишься вдруг тревожно
И зарыдаешь так, что можно
Всю душу выплакать с тобой.
(Брайтон. Конец 1838)
Это пантеистическое направление в его зрелом творчестве станет одним из основных, особенно сближая с Ф.И. Тютчевым (поэты и в жизни сблизились).
Молитвенные думы о святой Руси
Вскоре определилось еще одно, пожалуй, основное, мощно выраженное и самобытное направление творчества Вяземского – лирическое исповедание Православия, совершавшееся на путях покаяния во грехах своих, на путях задушевной проповеди веры и на путях молитвенного общения с Богом. В этом Вяземский сблизился со зрелым Тютчевым, но опередил его по времени, по количеству, да, пожалуй, и по качеству написанного. Как православный исповедник и проповедник, поэт Вяземский превзошел всех своих современников, а по сути и всех светских писателей России. Это тем более удивительно, что в течение всей жизни он не переставал терзаться тягостными сомнениями, вплоть до неверия, как не переставал искушаться и различными магическими веяниями. Но, быть может, именно тернистость пути и рождала силу покаяния, силу воззвания к Богу.
Для сильного прояснения духовных очей необходимо было испытать какое-то особое мистическое потрясение. Поэт пережил непостижимое, ужаснувшее его событие, о котором не поведал никому, кроме архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успенского), а тот передал услышанное в назидание потомству в своих воспоминаниях, основанных на дневниковых записях: «Когда я был еще архимандритом, меня в Александровской лавре посетил князь Петр Андреевич Вяземский и, между прочим, рассказал мне следующий необычный случай с ним: “Я в молодости своей не верил ни в Бога, ни в бытие души, ни в загробную жизнь и даже частенько насмехался над религией и над служителями ее. А теперь я верю и молюсь. Такой переворот к лучшему совершился во мне по следующему случаю. Однажды я ночью возвращался в свою квартиру на Невском проспекте, у Аничкова моста, и увидел яркий свет в окнах своего кабинета. Не зная, отчего он тут, вхожу в дом и спрашиваю своего слугу: "Кто в моем кабинете?" Слуга сказал мне: "Там нет никого", – и подал мне ключ от этой комнаты. Я отпер кабинет, вошел туда и увидел, что в глубине этой комнаты сидит задом ко мне какой-то человек и что-то пишет. Я подошел к нему и, из-за плеча его прочитав написанное, громко вскрикнул, схватился за грудь свою и упал без чувств; когда же очнулся, уже не увидел писавшего, а написанное им взял, скрыл и до сей поры таю, а перед смертью прикажу положить со мною в гроб и могилу эту тайну мою. Кажется, я видел себя самого пишущего. После этого видения я сделался верующим”».
Вяземский пишет «Молитвенные думы»
– еще не молитву, а размышление о ее благости
и притягательности. Это вопль русской души,
отлученной по условиям жизни от полноценного
исповедания родной веры. Это вопль
целого народного слоя – высшего и
образованного, сознающего свою
оторванность от народной основы и жаждущего
воссоединения. Эпиграф ставит главный
вопрос (от лица обобщенно-личного светского
сознания): «Пушкин сказал: “Мы все
учились понемногу /
Чему-нибудь и как-нибудь”. Мы также могли бы
сказать: “Все молимся мы понемногу / Кое-когда
и кое-как”. (Из частного
разговора)».
Вяземский выступает в «Молитвенных думах» с проповедью Православия при одновременном покаянии в своем отступничестве:
Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно
И тайно про себя, и явно всенародно
Пред каждой церковью, прохожих не
стыдясь,
Сняв шляпу и крестом трикратно осенясь,
Оказывал и я приверженность к
святыне,
Как делали отцы, как делают и ныне
В сердечной простоте смиренные сыны
Все боле с каждым днем нам чуждой старины.
Поэт напоминает себе и людям своего круга, что значит крестное знамение, непрестанно творимое народом:
Им наша Русь слывет, в урок нам, Русь
святая;
Им немощи свои и язвы прикрывая,
И грешный наш народ, хоть в искушеньях слаб,
Но помнит, что он сын Креста и Божий раб,
Что Промысла к нему благоволеньем
явным
В народах он слывет народом
православным.
Но этим именем, прекраснейшим из всех,
Нас небо облекло, как в боевой доспех,
Чтоб нам не забывать, что средь житейской
битвы
Оружье лучшее: смиренье и молитвы,
Что следует и нам по скорбному пути
С благим Учителем свой тяжкий крест нести.
В «Молитвенных думах» поэт признал, что он, как часть своего народа, «в искушеньях слаб», однако непрестанно кается и очищается от грехов.
Наметилось в «Молитвенных думах» и неизменное в дальнейшем, но, впрочем, и всегда сдержанное неприятие крайностей славянофильства:
Не дай нам Бог во тьме и суете житейской
Зазнаться гордостью и спесью фарисейской
И святостью своей, как бы другим в
упрек,
Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок.
Прославляя Православную Церковь как «заботливую мать» (это некая противоположность «матери-природе»), Вяземский отмечает, что под ее покровом в русском языке, сознании и, соответственно, в самом бытии все определяется смирением, так что одно и то же слово, только по разному написуемое, означает и смиренное согласие, лад («мир»), и мироздание, вселенную («мiр»):
Приличий светских долг желая соблюсти,
Ведь кланяемся мы знакомым по пути,
Будь выше нас они иль будь они нас ниже.
А Церковь разве нам не всех знакомых
ближе?
Она встречает нас при входе нашем
в мiр,
В скорбь предлагает нам врачующий свой
мир
И, с нами радуясь и радостям, и счастью,
Благословляет их своей духовной
властью.
Когда над нами час ударит роковой,
Она нас с берега проводит на другой,
И в этот темный путь, где все нас разом
бросит,
Одна ее звезда луч упованья
вносит;
За нас и молится, и поминает нас,
Когда уж на земле давно наш след угас…
А мы ленимся ей сыновний долг воздать?
В «Молитвенных думах» лучше, чем где бы то ни было, выражено часто возобновляемое у Вяземского порицание рассудочной бездуховности (здесь же одновременно слышится и отвержение упований на магию самозамкнутого воображения):
Наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
Готов признать мечтой и детским
суеверьем
Все, что не может он подвесть под свой
расчет.
Но разве во сто крат не суеверней
тот,
Кто верует в себя, а сам себе загадкой,
Кто гордо оперся на свой рассудок шаткой
И в нем боготворит свой
собственный кумир,
Кто, в личности своей сосредоточив
мiр,
Берется доказать, как дважды два четыре,
Все недоступное ему в душе и в мiре?
В то же время в «Молитвенных думах» отразилось постоянное у поэта стремление к соединению незыблемой и таинственной православной духовности с меняющейся мирской наукой и образованностью:
Чтоб Божий мир для нас был школой изученья,
Чтоб не ленились мы на жатву
просвещенья,
Чтоб сердцу не в ущерб и вере не в
подрыв,
Наукою народ себя обогатив,
Шел доблестно вперед, судьбам своим
послушно,
Не отрекаяся от предков малодушно.
Намечено в «Молитвенных думах» и покаяние в отказе от несения своего креста (отказ этот, в частности, проявляется и в простейшем – под разными предлогами – уклонении знаменовать себя крестом):
А мы, рабы сует, под их тяжелой ношей,
Чтоб свет насмешливый не назвал нас
святошей,
Чтоб не поставил нас он с чернью наряду,
Приносим в жертву крест подложному
стыду, –
и покаяние в отсутствии молитвы:
Иль в наших немощах, в унынии бессилья
Подчас не нужны нам молитвенные крылья,
Чтоб свеять мрак и сон с отягощенных
вежд,
Чтоб духом возлетать в мир лучший, в мир
надежд,
В мир, нам неведомый, но за чертой
земною
Мир предугаданный пророческой тоскою?
Рассуждая о молитве, поэт проникает в самые глубины и высоты душевной жизни христианина и, вооруженный этим ведением, по сути, дает оценку значительной части своего творчества, не просветленной христианским духом:
Когда земной соблазн и мира блеск и шум,
Как хмелем, обдают наш невоздержный ум,
Одна молитвою навеянная дума
Нас может отрезвить от суеты и шума,
Нас может отрешить, хоть мельком, хоть на миг,
От уловивших нас страстей, от их
вериг,
Которые, хотя и розами обвиты,
В нас вносят глубоко рубец свой
ядовитый.
К собственной молитвенной лирике поэт подступал долго и трудно, через ряд стихотворений, лишь описывающих состояние молитвы, достоинства ее, желание молиться:
Когда возносишься с долин житейской ночи
Ты к утру вечной чистоты,
И к небесам подъемлешь ты
Любви возвышенной исполненные
очи,
Верь, преклоняются и небеса к тебе.
(К молящейся. 1827)
В 6-й записной книжке (1828–1829) Вяземский представляет, как он будет молиться в преддверии иной жизни: «Мои мысли лежат перемешанные, как старое наследство, которое нужно было бы привести в порядок. Но я до них уже не дотронусь; возвращу свою жизнь небесному Отцу; скажу ему: “Прости мне, о Боже, если я не умел воспользоваться ею; дай мне мир, который не мог я найти на земле. Отец! Ты единая благость! Ты прольешь на меня одну каплю сей чистой и божественной радости”»[24]. Тут не столько смиренная молитва, сколько разговор (причем предполагаемый) с Богом почти на равных.
В стихотворении «Любить. Молиться. Петь» (1839) состояние молитвы опять только описывается, но не осуществляется. Также и в стихотворении «Молись» (1840):
Молись! Дает молитва крылья
Душе, прикованной к земле,
И высекает ключ обилья
В заросшей тернием скале!..
Одне молитвы не обманут
И тайну жизни изрекут…
В 1840 году в стихотворении «Молитва» поэт перешел некую незримую внутреннюю преграду и прямо обратился с молитвенными стихами к ангелу-хранителю (возможно, сказалась скорбь, вызванная смертью дочери Надежды в этом году). Стихотворение состоит из трех частей. Сначала следует выдержка «Из молитвы Иоанна Златоустаго»: «Господи! избави мене всякаго неведения, и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия; Господи! даждь ми слезы, и память смертную, и умиление». Этот эпиграф подчеркивает, что молитвенная проза святых выше и поэтичнее стихотворства новых поэтов. Далее в стихотворении следует уже обычное для Вяземского описание различных молитвенных состояний:
Бывают дни, когда молиться так легко,
Как будто на душу молитвы сходят сами,
Иль ангел, словно мать младенцу на ушко,
Нашептывает их с любовью и слезами.
В те дни нам жизнь ясней и внутренним
глазам
Доступней Промысла таинственная книга,
И чаще радость в нас, и крест не в бремя
нам,
И благ тяжелый гнет возлюбленного ига.
Но поэта беспокоит другое, прямо противоположное душевное настроение, которое как раз чаще выражалось в его лирике. Это именно то «окамененное нечувствие», которое в эпиграфе поражается молитвой святого Иоанна Златоуста:
Бывают дни, когда мрак на душе лежит:
Отяжелевшая и хладная, как камень,
Она не верует, не любит, не скорбит,
И не зажжется в ней молитвы тихий пламень.
Вдохновленный молитвой святого Иоанна, Вяземский в заключительной, третьей части стихотворения подвигается на собственную молитву. Он словно бы предчувствует, какой именно грех будет для него с течением лет все более тяжким и обременительным:
Хранитель ангел мой! Не дай мне в эти дни
Пред смертью испытать последнее
сомненье…
Но теплых чувств во мне источник
обнови,
Когда остынет он в дремоте лени томной;
Дай умиленье мне молитвы и любви,
Дай память смертную, лампаду в вечер темный.
В «Утешении» (1845) поэт кается во грехах своих и утешается как раз тем, что ему удается хранить память смертную и преодолевать окаменение души:
Пред Господом Богом я грешен!
И кто же не грешен пред Ним?
Но тем я хоть мало утешен,
Что брат я всем братьям моим…
Что тайная есть мне отрада
Внезапно войти в Божий дом
И там, где мерцает лампада,
С молитвой поникнуть челом;
Что дня не проходит и часу,
Чтоб внутренним слухом не внял
Я смерти призывному гласу
И слух от него уклонял…
Впрочем, высокий мистический настрой даже в молитвенной лирике Вяземского непостоянен. Так, в «Моей молитве» (1847) слышен хотя и не прямой, но все-таки упрек Богу:
Господь, ущедри и помилуй,
Не дай мне умереть зимой…
Поэт просит смерти летом:
Когда так весело и пышно
Земля пирует летний пир,
И чувству видимо и слышно,
Что этот мир есть Божий мир.
Мир, таким образом, видится поэту не вполне благоустроенным и продуманным. Не случайно, что здесь же появляется обычная насельница пантеистических стихов Вяземского – «матерь-природа». Конечность частного бытия кажется ему более понятной и оправданной в свете всебожия.
Во время общеевропейской смуты 1848 года из уст Вяземского раздается огненная стихотворная проповедь «Святая Русь» – сжатое и сильное повторение и развитие мыслей и настроений «Молитвенных дум»:
Как в эти дни годины гневной
Ты мне мила, святая Русь,
Молитвой теплой, задушевной,
Как за тебя в те дни молюсь!..
Как я люблю твое значенье
В земном, всемирном бытии,
Твое высокое смиренье
И жертвы чистые твои,
Твое пред Промыслом покорство,
Твое бесстрашье пред врагом,
Когда идешь на ратоборство,
Приосенив себя крестом!
Горжусь венцом многодержавным,
Блестящим на челе твоем,
И некогда не меньше славным
Твоим страдальческим венцом…
Мне святы старины могилы,
И дней грядущих колыбель,
И наша Церковь – благ и силы,
И душ и доблестей купель…
Мне свят язык наш величавый:
Столетья в нем отозвались;
Живая ветвь от корня
славы,
Под нею царства улеглись;
На нем мы призываем Бога;
Им братья мы семьи одной,
И у последнего порога
На нем прощаемся с землей…
О, дорожи своим залогом!
Блюди тобой избранный путь,
И пред людьми и перед Богом,
Святая Русь, – святою будь!
В этом стихотворении Вяземский как никогда раньше и позднее сближается со славянофилами и с предтечей славянофилов А.С. Шишковым, своим противником в прошлом. Как никогда Вяземский близок к признанию наивысшего и вечно живого священного достоинства церковнославянского языка и к признанию его неразрывного единства с современным русским языком. Это стихотворение непосредственно готовит взлет православно-державных настроений поэта, пришедшийся на годы Восточной (Крымской) войны (1853–1856).
В начале 1849 года умерла последняя из дочерей Вяземского Мария. Поэт отвечает на испытание судьбы как христианин: он и его супруга Вера Федоровна решают поклониться святым местам. В июне 1849 года они выезжают в Константинополь к своему сыну, служившему там. Знаменательно, что их путь в Иерусалим прошел через священную для Православия столицу былой Византии – второй Рим, Константинополь. Лишь 7 апреля 1850 года они выехали из Константинополя в Палестину и 12 мая заказали на Голгофе обедню за упокой родных и друзей. Мистические впечатления от святых мест отразились в стихотворениях 1850 года: «Палестина», «Иерусалим». Правда, в то же самое время Вяземский излагает свои впечатления и дневниковой прозой – весьма рассудочно и почти скептически, сосредоточившись на том, что колеблет веру: «Гефсимания… Латины показывают одно место, где молился и страдал Спаситель, а греки другое. Вообще главная местность хорошо обозначена евангелистами; но жаль, что хотят в точности определить самое место, самую точку, где такое-то и такое-то событие произошло. Тут определительность не удовлетворяет, а напротив, рождает сомнение… Признаюсь откровенно и каюсь, никакие святые чувства не волновали меня при въезде в Иерусалим»[25].
Очевидно, именно подобные душевные противоречия привели поэта к созданию «Молитвы ангелу-хранителю» (1850):
Научи меня молиться,
Добрый ангел, научи!..
Дай моей молитве крылья!
Дай полет мне в высоту!
Дай мне веры безусловной
Высоту и теплоту!
Неповинных, безответных
Дай младенцев чистоту
И высокую, святую
Нищих духом простоту!
Венчает эту молитву описание подлинно мистического восторга души (вос-торга, вос-хищения, «выхода из себя», по-гречески – «экстазиса»), когда личность, душа, в отличие от пантеистического экстаза, при соприкосновении с Вечностью и Бесконечностью не растворяется (в гордой попытке стать «всем»), но понимает в духовном трезвении, что она лишь общается с Богом, а не становится Им и не охватывает собою «все»:
Дай стряхнуть земные узы
С прахом страннических ног,
Дай во мне угаснуть шуму
Битв житейских и тревог;
Да откроется тобою
Мне молитвенный чертог,
Да в одну сольются думу
Смерть, бессмертие и Бог!
В феврале 1853 года Англия и Франция заключили тайное соглашение, а в марте 1854 года вступили в войну против России на стороне Турции. В годы войны Вяземский написал целый ряд отчизнолюбивых стихотворений и статей. Те стихи сам поэт назвал «рукопашными» (в письме к Д.П. Северину от 13/25 марта 1854 года). Из ряда статей он составил книжку и напечатал ее на французском языке в Лозанне в начале 1855 года под названием «Письма русского ветерана 1812 года о Восточном вопросе» (на русский она была переведена позднее П.И. Бартеневым – для Полного собрания сочинений Вяземского). В этой книге писатель вступает в бой с западным общественным мнением, с самим духом западного сознания. Он защищает свои излюбленные мысли о русском Православии, самодержавии, народе – мысли, уже вполне созревшие и выраженные в лирике прошлых лет. Он переводит эти русские представления на основной международный язык Запада – французский. Он вступает, таким образом, в самую трудную, сложную и ответственную борьбу, совершавшуюся на уровне народных языков, сознаний, душ – ту борьбу, в которой Россия обычно проигрывала, потому что относилась к ней беспечно. Вяземский сделал то, чему Запад всячески препятствовал: внедрил хотя бы одно зерно русского самосознания в почву западного языка на западной стороне (отдельные статьи в повременных изданиях Запада ему удавалось печатать с большим трудом; тогда-то он и решил издать целую собственную книгу).
Переживания за Родину необыкновенно усилили исповедальные настроения в душе и поэзии Вяземского. Эти настроения усугубились летом 1854 года в состоянии тяжелейшей болезни. В стихотворении «12 июля 1854 года», написанном в день 62-летия, поэт исповедуется, рассказывает о том, как молился в предсмертной тоске:
Не думал я дожить до нынешнего дня,
Казалось мне, что смерть уж сторожит меня…
С днем каждым я твердил: вот мой последний
день!
Набросит ночь свою таинственную тень,
Вступлю ли, как во гроб, на роковое
ложе?
С тоской и трепетом взывал я: Боже,
Боже!
Я знаю, сочтены мне вверенные дни,
Во царствии Своем меня Ты помяни!
Стихотворение «Сознание» (1854) являет глубокую покаянную мистику души. Словно бы прозрев, поэт кается в духовной слепоте, в отказе нести крест свой, в том, что зарыл талант в землю; он не считает оправданием для себя тяготы жизни, превосходящие обычную для человека меру; и он не упрекает Бога (как порою делал раньше и еще будет впоследствии):
Я к старости дошел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил…
Талант, который был мне дан для приращенья,
Оставил праздным я на жертву
нераденья…
Где воли торжество, благих трудов
начало?
Как много праздных дум, а подвигов как
мало!
Я жизни таинства и смысла не постиг;
Я не сумел нести святых ее вериг,
И крест, ниспосланный мне свыше мудрой волей
–
Как воину хоругвь дается в ратном поле,
–
Безумно и грешно, чтобы вольней идти,
Снимая с слабых плеч, бросал я на пути.
Но догонял меня крест с ношею суровой…
Внезапная смерть Николая I вызвала проникновенное стихотворение Вяземского «18 февраля» (17 апреля 1855). Поэт видит себя в таинственном духовном единстве с православным народом и царем:
Я пел его. Любовь мой стих
одушевляла.
Я отголоском был народным; и мой стих,
Мой задушевный стих Россия повторяла,
Как собственную мысль и отзыв
чувств своих.
Восшествие на престол Александра II породило прилив новых мистических надежд Вяземского. Он уверовал в установление еще более прочного духовного единства между царем, простым народом и высшим просвещенным (но и православным) слоем общества. Участвуя в качестве высокого придворного чина в обряде коронации в Москве, Вяземский ликовал и славил мистическое державное достоинство Москвы как третьего и последнего Рима. В 21-й записной книжке он передал свои впечатления: «Никакой город в мире так не способен и не удобен к подобным торжествам. Ни Рим, ни Царьград не могут поспорить с Москвою в этом отношении. Да и русский народ особенно хорош в таких случаях… На таких праздниках религиозное чувство превышает и одолевает все другие чувства. На улицах русский народ, при звоне колоколов и при торжественном шествии царя, словно в церкви. Он более молится и крестится, чем кричит “ура!” Русский народ при каждой радости, прежде чем вскрикнуть или всплеснуть руками, осеняется крестным знамением и душу возносит к Богу. Иностранцы удивляются этой тишине народа и приписывают ее полиции и народному повиновению ей. Вовсе нет. Народ наш так же бурен при случае, как и всякая другая толпа. Но тут он более всего царелюбив и богомолен, то есть тем, чем он есть преимущественно по свойству своему и глубине души своей…»[26].
В июне 1855 года Вяземский представился царю и был назначен товарищем министра народного просвещения, а соответственно и членом Главного управления цензуры. Он надеялся лично участвовать в насаждении просвещенного Православия. В ряде стихотворений этого времени является глубина и утонченность его мистического ведения. Одно из них названо весьма символично: «На церковное строение» (1856). Поэт видит, как по всей Руси совершается непрестанная, неустанная, невидимая поверхностному взгляду работа по созиданию Православной Церкви. Он описывает одно из проявлений такой работы: сбор простыми людьми среди простых людей скромных пожертвований на очередной строящийся храм Божий. Духовным зрением он видит, как эта работа (и как церковная жизнь вообще) единит весь русский народ, причем не только в современном его проявлении, но и в бесконечной цепи поколений, уходящих из времени в вечность. Поэт рад участвовать в подобных сборах:
Скажу: и моего тут меду капля есть;
Скажу: и моего тут будет капля масла,
Чтоб пред иконою лампада ввек не гасла;
Чтоб тихий свет ее лик Спаса озарял
И в душу скорбную отрадой проникал…
И безымянною молитвой обо мне
Помянут верные в далекой стороне,
Когда за Божий дом собравшиеся в оном
И за создателей той церкви крест с поклоном
Пред Господом живых и мертвых
сотворят.
Поэт провидит, как и после его смерти о нем, внесшем лепту на строительство храма, будет продолжаться усердное моление живущих, и он надеется, что через то ему многое простится в вечности:
Тут память и моя пройдет из рода в род;
И может быть, Бог даст, сей лептой богомольной
Искупится мой грех, иль вольный, иль
невольный,
И там зачтется мне взамену добрых дел,
Что к Церкви Божией душой я не хладел.
В стихотворении «Сельская церковь» (1856) Вяземский, по-видимому, сознательно поправляет образ России, явленный в «Родине» Лермонтова. Прямо пользуясь лермонтовскими выражениями, он, однако, сосредоточивает внимание на главном, по его мнению, но не замеченном Лермонтовым начале всей красоты русской жизни:
Люблю проселочной дорогой
В день летний, в праздник
храмовой,
Попасть на службу в храм убогой,
Почтенной сельской простотой.
С конца 1856 года Вяземский был назначен начальником Главного управления цензуры. Он чаял обрести возможность мощного воздействия на весь ход просвещения, с тем чтобы в условиях гласности и относительной свободы слова привлечь все лучшие дарования страны на проповедь просвещенного Православия и самодержавия, однако встретился с яростным сопротивлением, причем возникшим со всех противоборствующих между собой сторон. Сопротивлялись и многие высшие правительственные чины. Сам царь поддерживал все меньше. И в марте 1858 года Вяземский был вынужден подать в отставку вслед за сочувствовавшим ему министром народного просвещения А.С. Норовым. Эти переживания сильно ударили по православно-державным чаяниям поэта. В «Унынии» (1857) он исповедуется:
Житейских битв волненье и
тревога
Меня смущают: духом я пуглив…
В 1858 году он молится в десяти выразительных строках об укреплении веры:
Чертог Твой вижу, Спасе мой,
Он блещет славою Твоею, –
Но я войти в него не смею,
Но я одежды не имею,
Дабы предстать мне пред Тобой.
О, Светодавче, просвети
Ты рубище души убогой,
Я нищим шел земной дорогой:
Любовью и щедротой многой
Меня к слугам твоим причти.
Так Вяземский перелагает великопостный светилен, который поется на утрени по завершении канона в первые три дня Страстной седмицы: «Чертог Твой вижду, Спасе Мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя». Число строк здесь символически подчеркивает полноту переживания и совершенство выражения. Переложение свидетельствует о смиренном проникновении в самую глубину православной мистической жизни.
Закат духа
Впоследствии, в первой половине 1860-х годов, Вяземский-поэт еще находит силы для духовной борьбы с бездуховными «нигилистами» и с восставшими в очередной раз поляками. Находит он силы и для поддержки царя, пережившего в 1866 году покушение («Комиссарову», «16 апреля 1866 года»). Однако бесчисленные потрясения с течением лет все более сказываются на его здоровье, на душевном самочувствии. Как нередко бывает, на закате жизни начинают в очередной раз всходить семена, посеянные в детстве и юности. А в судьбе Вяземского это были семена сомнений, неверия, магического самообожения, иезуитского воспитания. Подобные ростки появлялись в его творчестве и во времена высшего расцвета православных настроений, однако теперь они становятся особенно заметными. Стареющего поэта все более привлекает полная глухая бездуховность, ведущая, казалось бы, кратчайшим путем к совершенному покою. В этой тяге есть нечто буддийское, нечто такое, что примерно в те же годы переживал Лев Толстой: стремление сократить все переживания до простейшей чувственности, а затем и бесчувствия. В стихотворении «Дорогою» (около 1864) поэт описывает путь своей жизни:
С грустным увяданьем тела
И мой дух поприувял.
«Я жить устал – я прозябать хочу», – признается он в стихотворении «Мне нужны воздух вольный и широкий…» (около 1864). Это образцовое сентиментальное сочинение, проповедь простейшей бездуховной чувственности, «сладости неги праздной».
В начале 1870-х годов Вяземский переживает предельный духовный упадок:
Покоя твоего, ничтожество! я
жажду:
От смерти только смерти жду.
(«Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду…». 1871)
Отказываясь от вечной жизни, поэт называет «злопамятливого Бога» «палачом» («Все сверстники мои давно уж на покое…», 1872; «Свой катехизис сплошь прилежно изуча…», около 1872).
Однако Вяземский перестал бы быть собой, если бы эти упадочные настроения в его закатном творчестве не сочетались противоречиво со всеми другими воззрениями на мир, которые были испытаны им в прежние годы. Даже и в 1877 году он пытается, правда, не очень успешно, возродить молодую арзамасскую игру воображения и шутливость («Моя легенда»). В том же 1877 году он со странным рвением осуждает русское правительство, да и весь народ, за помощь «славянам» в новой войне с Турцией: «Вы любите одних, чтоб прочих ненавидеть!» (Весна 1877 года (во время прогулки пешком). Турки находят в его лице нежданного, но красноречивого защитника: «И турки братья нам: / Отец у нас один». Как воспитанник иезуитов и французских просветителей, престарелый Вяземский в духе веротерпимости осуждает насилие любой войны, ссылаясь на отвлеченную и неопределенную веру в Бога.
Сам поэт понимал, что его позднее творчество – это еще один виток душевных метаний, казалось бы уже преодоленных в прежние годы. Свое понимание он выразил в «собрании» стихотворений «Хандра с проблесками» (между 1874 и 1877), подчеркнув в названии переменчивость мировосприятия и оценив одни стихотворения как плод болезни, а другие – как плод духовного озарения. Все многообразие мировоззренческих установок здесь сведено к двум основным: к полной бездуховности и к православной мистике. Замысел сборника сжался до ряда из десяти исчисленных стихотворений. Само исчисление подчеркивает некую последовательность творческого развития, а итоговое число «десять», сообразно общепринятой символике, указывает на полноту и завершенность художественного пути. «Хандра с проблесками» является сокращенным итогом, огрубленным художественным образом всего творчества Вяземского. Стихотворение 1 «Пью по ночам хлорал запоем…» передает жажду самоуничтожения как успокоения. Стихотворение 2 «И жизнь, и жизни все явленья…» содержит признание поэта в том, что его душа отравлена «недугом». Стихотворение 3 «Чувств одичалых и суровых…» поясняет, что недуг искажает все мировосприятие поэта. Стихотворение 4 «Загадка», словно бы на примере, показывает, как искаженное недугом сознание приходит к богопротивлению и отказу от духовности. В стихотворении 5 «Я – прозябаемого царства…» бездуховность в ее чувственном проявлении оправдывается как единственное доступное благо. В стихотворении 6 «Жизнь коротка: но в ней не все же скоротечно…» попытка сентиментального, бездуховно-чувственного оправдания жизни развивается. В стихотворении 7 «Цветок» – то же самое. В стихотворении 8 «“Такой-то умер”. Что ж? Он жил да был и умер…» выражается сомнение в ограниченности бытия кругом здешней природно-вещественной жизни, вполне доступной чувству и разуму. В стихотворении 9 «Вхожу с надеждою и трепетом в Твой храм…» сомнение преображается в мистическую надежду, и Вяземский в духе своих лучших православных стихотворений слезную исповедь души переводит в теплую молитву:
Боец уязвленный, томлюсь я битвой дня:
В Твое убежище, в Твое
успокоенье,
Прими, о Господи, меня.
Однако в стихотворении 10 «Уж падают желтые листья…» мистический порыв гаснет в безнадежной бездуховности, и это у Вяземского соответствовало общему ходу творчества. А в его творчестве отражалось основное движение русского самосознания, безудержно устремлявшегося на исходе XIX века к богоборческому мятежу и безбожной бездуховности.